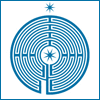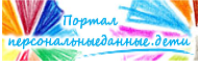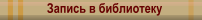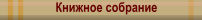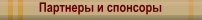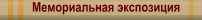Бюллетень. Выпуск пятнадцатый. Приложение
Белова Г.Д. Поминайте учителей и наставников ваших...
(Памяти Алексея Федоровича Лосева)
, , , , стр. 5, , , , ,
***
Как-то однажды, еще в 1970-х годах, Алексей Федорович, смеясь, мне говорил вот что: «Вы теперь не знаете, что такое заем, а раньше была подписка на заем. Конечно, "добровольная". Нас, профессоров, подписывали каждый год на сумму в размере месячной зарплаты. Значит, один месяц в году я работал бесплатно». Рассказывал это смеясь, потому, что был человеком памятливым, но не злопамятным и не жадным, а удивительно щедрым. Но то, что политика государства и партии была такая, так это факт.
И еще две записи, сделанные уже в 1980-е годы. Когда Аза Алибековна уходила в университет, иногда и я оставалась с Алексеем Федоровичем. У него в это время была уже сильная гипоксия и он, сидя в кресле, надувал резиновый круг для упражнения легких и сжимал резиновую игрушку для работы мышц. Рекомендации врача исполнял. Ох, и терпелив был! А однажды подаю ему этот круг, а он так горестно говорит: «Да ну! Не хочу, не буду! Надоело мне все это». Почти в 95 лет так тяжело болел, но хотелось работать. Разговаривали мы мало, потому что уставал он. Иногда произносил: «Давайте не будем говорить».
Вот что Алексей Федорович говорил:
«Вся эта свобода печати до времени. Вот махнет рукой (и сам слабо взмахивает рукой, показывает как взмахнет) и всё.
Я: Знак, значит, подаст?
Он: Ну, конечно, знак. Махнет рукой и всё».
Совсем уж незадолго до смерти вот так же сидели в кабинете и на мои очередные вопросы о том, что будет, сказал так: «Как кулак разжался, так и сожмется (и показал рукой как). Мир будет жить, а русские так всё и будут сидеть в землянке и отращивать свой волосатый кулак».
Как будет — неизвестно, но Алексей Федорович, видимо, обдумывал происходившее и сказал именно так.
В этот же период как-то зашел разговор о репрессиях, и я сказала, что, мол, вот вы, Алексей Федорович, тоже пострадали. Он ответил вдруг с какой-то легкой интонацией и даже как-то пренебрежительно махнув рукой: «Да-а-а, я сидел недолго…»
Конечно, по сравнению, например, с Георгием Карловичем Вагнером недолго; тот совершенно безвинно отбыл восемнадцать лет на Колыме и потом бесконвойно, на поселении. Срок пришелся и на войну; в войну политических не освобождали, а срок продлевали. Помню, когда у Георгия Карловича умерла жена, то он был просто убит. Вскоре после ее похорон мы шли как-то по Арбатской площади, весна, многолюдье и такое солнце. А он плакал на ходу и говорил: «Не могу жить, не могу. Вот солнце, а мне кажется, что все вокруг черным-черно. Я уж все книги, бумаги, архив — все разобрал и сложил по порядку. И справку свою о реабилитации нашел, положил в документы. Вдруг придут забирать…»
— За что? — удивилась я, решив, что у него с горя разум помутился.
— А тогда за что? — спросил он тихо.
Вот уж когда ответить было совсем нечего.
О чем еще говорил? Ничего не помню. Ничего не записано. И от этого одни горькие сожаления. Надо было по возможности все записывать. А я по глупости не только не записывала, но и были случаи, когда даже слушала невнимательно. Один такой случай врезался в память, стыжусь и раскаиваюсь до сих пор. Это было еще в 1970-х годах. Как-то спросила я Алексея Федоровича о душе. Он стал говорить, а мои мысли вильнули куда-то в сторону. Голос слышу, а мысли о чем-то другом. Как наваждение. Потом включаюсь, а Алексей Федорович говорит: «А потому душа везде и нигде». И осталась я с разинутым ртом. Ведь не скажешь же, что повторите, мол, не слышала. Святой человек и мудрый, поэтому хватало терпения разговаривать с такими дураками, как я. Однажды Аза Алибековна справедливо заметила, что Алексей Федорович намного пережил всех своих собеседников и разговаривать на равных ему было не с кем.
Алексей Федорович никогда никого не поучал, но если спрашивали — всегда отвечал. Это же так удобно, не искать ответа в книгах, не думать мучительно, а спросил — и пожалуйста!
В те времена мы ездили с издательством в турпоездки. Приехала я как-то из Прибалтики, пришла на Арбат, сначала дела книжные, потом чай. Стала я рассказывать, что в поезде один чернорабочий настаивал, что Бога нет, потому что когда Гитлер убивал в концлагерях невинных детей, то где был Бог? И мы не могли ему ничего толком ответить. Алексей Федорович послушал мои сбивчивые речи и говорит:
— Ты хочешь спросить, почему Бог попускает мировое зло?
— Да, да, — обрадовалась я и приготовилась выслушать целую лекцию.
— Никто не знает, почему Бог попускает мировое зло. Это божественная тайна.
И добавил, что человеческий разум не всё может знать. Вообще к позитивизму относился отрицательно. Кстати, так же говорил и о Сократе, о том, что в смерти Сократа есть какая-то тайна.
Была своя тайна и у Алексея Федоровича. Он ушел и унес свою тайну в могилу, не сказав ни словечка ни единой живой душе. Из одного этого уже можно понять, как серьезно и трепетно он относился к своему внутреннему миру, к интимной жизни своей души. Только через некоторое время после его смерти стало нам известно, что Алексей Федорович был монах в тайном постриге с именем Андроник (что означает — победитель мужей), а его первая супруга Валентина Михайловна приняла постриг с именем Афанасия. Когда-то венчал их в Троице-Сергиевом Посаде о. Павел Флоренский, а потом оба они стали монахами в миру. Это произошло в то время, когда монастыри почти все разрушили, а монахов разогнали, преследовали и даже истребляли. Это поступок, который сам за себя говорит.
Когда я узнала об этом, то многое из прошедшего, из событий и разговоров предстало передо мной совсем в ином свете. Алексей Федорович несколько раз по ходу разных разговоров замечал: «Богу можно служить и в миру!» Теперь я это понимаю иначе, чем тогда.
Аза Алибековна спрашивает: «Алексей Федорович, будете пост держать?» Он вдруг так отвечает: «У меня всю жизнь пост». Теперь понимаю, что пост — прежде всего молитва, а значит, и ответ по существу. Ел же старик все больше грибной или овощной суп, да винегрет, и никогда ничего не заказывал. Вообще ел, что дают.
В самом начале знакомства пришла по делам на Арбат и первый раз попала на пасхальную неделю.
— Алексей Федорович, поздравляю вас с праздником! — осторожно говорю я.
— А с каким? — весело улыбается старик, как загадку задает.
— С Пасхой! — отвечаю я.
— А как надо правильно сказать?
— Христос Воскресе! — говорю я.
— Воистину Воскресе! Вот теперь правильно!
Ну, что сегодня скажешь на все это? Нежно и шутливо воспитывал монах в тайном постриге рядового советского человека. В те поры я никаких монахов не знала, не то что тайных.
Через год я пришла уже смело и даже с подарком. Вот, говорю, ездил один священник в Святую Землю, привез оттуда листья лавра и раздавал своим прихожанам. Мне подарили, а я разделила и вам принесла. Алексей Федорович как-то сосредоточился, взял пакетик в руку, благоговейно поднес к губам и ко лбу, перекрестился и поблагодарил. Потом открыл правый верхний ящик стола и стал наощупь пристраивать этот пакетик среди своих вещиц. Очень это было трогательно. Я говорю, что вот вам и крашеное яйцо принесла. Вдруг старик стал громко звать: «Аза, Аза!» Аза Алибековна не пришла, а прибежала: «Что, что случилось?» «Неси скорее яйцо!» — весело воскликнул Алексей Федорович. И был весь вечер в хорошем настроении.
Ложь вообще не моя стихия, а на Арбате и тем более я всегда говорила правду, только правду и ничего кроме правды. Что есть, то и бухну не подумавши. Ну и ситуации, как я теперь понимаю, получались иногда забавные. Как-то, покончивши с делами, Алексей Федорович спрашивает: «Как у вас там в редакции, что-нибудь есть интересное?» Я бодро отвечаю: «Ничего особенного нет. А Юра сказал, что умеет творить умную молитву. А Сережа сказал, что если уж быть, то таким как Серафим Саровский, а если нет, то и нечего».
Аза Алибековна замерла и смотрит на Алексея Федоровича. Он молчит. Я же сижу как ни в чем не бывало, только чувствую, что пауза долгая. Потом Алексей Федорович заговорил.
— Когда я был молодым, то у меня был духовник отец Давид. А у отца Давида на Афоне тоже был духовник. Так вот тот умел творить умную молитву. Они жили в одной келье и постели были напротив друг друга. Когда ложились спать, то отец Давид видел, как тот молится и лежа приподнимается над постелью.
— Разве это может быть? — спрашиваю я.
— Конечно, — отвечает Алексей Федорович. — Ты читала у меня об античном эфире? Вот это так же. Когда человек молится, то может быть другое состояние материи.
Это теперь я прочитала про отца Давида (Мухранова), узнала про имяславие и умную молитву, а тогда… И ведь разговаривал же с нами Алексей Федорович, ронял в наши души семена, и менялись незаметно и постепенно, если не все, то многие. Мне казалось, что люди, окружавшие старика, были все хорошие: приходили с любовью и получали любовь. А когда умер, то все мы стали разные.
Когда был готов «маленький Соловьев», стали окольными путями хлопотать, чтобы его издавать. Вдруг, когда дело сладилось, выходит, силами и авторитетом космонавта Севастьянова, книга Федорова с идеей воскрешения всех и вся. Как же Алексей Федорович расстроился и рассердился! Волей случая мне пришлось услышать на эту тему целую речь Алексея Федоровича. И Аза Алибековна была с нами. Смысл этой речи был таков: вот работаешь, хочешь издать что-то важное, уже все хорошо, вот-вот исполнится, как вдруг — раз! — и, на тебе, все срывается! Теперь начнется шум и Соловьева не издадут.
Дословно резюме было следующее: «Ну что такое Федоров? Московский чудак! А всё пропало!»
Здесь хочется заметить, что не стоит всегда всерьез принимать такого рода высказывания как оценочные и окончательные. Это ведь жизнь. Мало ли какие бывают случаи и обстояния. Ну, человек и сказал. Пришлось на лосевских чтениях от кого-то из молодых философов услышать, что о Розанове сказал Лосев: виноват-де Василий Васильевич чуть ли не больше всех в последствиях революции; и что с ним за это надо сделать.
Однажды в разговоре я тоже (как, наверно, и многие) спросила Алексея Федоровича, что он о Розанове думает. Ну, Алексей Федорович и сказал: «Что ж, Василий Васильевич. Всё семья, жена, да щи, да котлеты, а после обеда сядет за письменный стол и шарит в штанах». И спустя несколько мгновений добавил: «А все-таки я его люблю!» Всё это говорилось с иронией, но с доброй улыбкой.
Для других людей, знавших Лосева лично, он был тоже немножко загадочен. Например, Юра Кашкаров не был уверен, что Алексей Федорович совсем не видит. Он все развивал теории, что может быть Алексей Федорович видит очень яркий свет. Думается, что утешал себя самого. Уж очень это страшно — тьма. Но зато не сомневался по части веры и мировоззрения Алексея Федоровича.
А вот в тексте «Из беседы, состоявшейся 16 марта 1984 г.» (участвовали П.В. Флоренский, С.М. Половинкин, Т.А. Шутова) всплывают вопросы у собеседников: верит — не верит? Марксист — не марксист? Почему писать о христианстве избегает? Всё как-то неопределенно. Правда, в конце разговора П.В. Флоренский приходит к правильному выводу: «Дайте мне завершить мой труд, остальное трепотня! Слишком долго меня заставляли молчать, а теперь у меня призывной возраст!»
Все вопросы-то фундаментальные. Мне вспоминается несколько эпизодов, которые проливают свет на эти проблемы. Когда Алексей Федорович был здоров, да еще и весел, — это было наслаждение. Очень смешно рассказывал. Однажды по ходу разговора стал вспоминать. «Раньше как лекции читали? Приходишь и сразу начинаешь: Иосиф Виссарионович Сталин в своем труде "Вопросы языкознания" писал. Зачитываешь цитату. И дальше Платон». — Я спрашиваю: «Что же, без всякой связи?» — «Без всякой связи», — подтверждает Алексей Федорович и веселится. Аза Алибековна смеется и говорит, что так и было. И другие лекторы тоже. Получается нечто вроде ритуала. Но ведь учили.
В том же тексте приводится ответ Алексея Федоровича на вопрос С. Аверинцева о душе: «... ум летит вперед, а душа трепещет. Ум летит, рвется вперед, а душа за ним боится следовать и трепещет». Ведь как искренне и честно ответил. Но в то же время надо было слышать, как он смеясь говаривал: «Я ведь донско-о-ой казак!» Алексей Федорович был человек мудрый, но и смелый. После издания восьмикнижия кто станет отрицать смелость Лосева? Рассудок, осмотрительность очевидно призывали к дипломатии с катастрофической жизнью, и все-таки он взорвался «Диалектикой мифа». Это отчаянное безрассудство, но ведь и невероятная смелость.
На память приходит такое красочное сравнение. В старой Москве (где-то век XVIII-й) на площади перед Страстным монастырем (ныне Пушкинская пл.) в распутицу была такая грязь, что оную площадь можно было пересечь только в экипаже; и часто в осенние ночи неслись с площади отчаянные крики «Караул!» тех смельчаков, которые решались перейти площадь пешими. Пешеходов грабили, а подчас и убивали — поневоле закричишь отчаянно. Караул приходил, но не всегда. Да, еще была такая колоритная деталь: люди, которые жили рядом, открывали в ночи окна и на отчаянные призывы несчастных кричали «Идем!», но, конечно, никто никуда не шел.
Так и на крик души Лосева откликнулись и пришли за ним совсем не те, кому надо бы к нему прийти. Здесь можно видеть сходство внешнее в ситуации и эмоциях. Но есть и большое различие. Там, на старой московской площади события разворачивались одномоментно. Человек надеялся благополучно проскочить, и иногда получалось. Такая смелость, как в холодную воду броситься — раз и все! А с Лосевым совсем иное. Конечно, как все люди, наверное, надеялся проскочить. Но мысль работала постоянно (это время), написание книги (это время), поиск путей к изданию (это время), принимает на себя полную ответственность за текст, т.к. это издание автора. Это вам не «Караул!» крикнуть и ждать помощи. Это решение и осуществление его во времени. Для таких действий надо иметь не просто смелость, а настоящее мужество, духовный стальной стержень.
Конечно, после пережитого опасения, видимо, были. А как иначе? Однажды я пришла к ним и принесла очень плохие вести. Суть дела была в том, что опять совсем затормозили издание, и по некоторым признакам надолго. Алексей Федорович сидел в столовой не на своем обычном месте, а в торце стола — спиной к окну и лицом к двери; Аза Алибековна стояла около его стула. Я же сидела на другом конце стола, нас разделало некоторое расстояние. Когда я сообщила об очередных бедах, Алексей Федорович так и сидел неподвижно и молчал. Потом повернулся к Азе Алибековне, а она близко нагнулась к его лицу, и сказал ей очень тихо: «А, может быть, они знают?» Она так же очень тихо, словно утешая его, ответила: «Ну, вряд ли. Ну откуда они могут знать?» Я же встрепенулась на своем конце и стала спрашивать: «Что, что они знают?!» Сразу они оба как бы «закрылись», и Аза Алибековна сказала мне: «Да так. Ничего». Больше я и не спрашивала. Мы в редакции очень долго не знали, что Лосев сидел.
Было бы неестественно, если бы не опасались. И не они одни. Это теперь все стали смелые до времени. Волею судьбы на протяжении ряда лет я была хорошо знакома с сестрами Киреевскими, последними бездетными потомками Ивана Киреевского. Их было четыре, все постепенно умерли, а задержалась сильно младшая из них, Людмила Ивановна Киреевская (по мужу Кончаловская); она умерла в девяносто три года. Когда она осталась одна, а на дворе уже 1990-е годы, перестройка и плюрализм, бывшие соседи по коммуналке, которые до смерти ей помогали, что было хлопотно и нелегко, т.к. они все переехали из-за расселения, предложили ей вот что: согласна ли она, чтобы к ней ходили помощники, молодежь из вновь образовавшегося дворянского общества? Надо было видеть, как она задрожала: «Нет! Ни в коем случае!» Изумление вопрошавших: «Почему?» И почтенная дама под девяносто, как говорил Алексей Федорович «призывного возраста», категорически ответила: «Нет, нет! Придут, арестуют и расстреляют!» Было дело, когда их однажды после революции, действительно, чуть не расстреляли за одну только фамилию. Да, видно, Бог спас. Все вышли потом замуж и фамилию сменили все. Из этого можно видеть, что уж вся жизнь человека прошла, а испуг — нет.
Хотя об Алексее Федоровиче этого сказать как раз нельзя. Вера, конечно, помогала. С.Б. Джимбинов в статье «Слово о Лосеве» вспоминает: «Как-то в день ангела я принес Лосеву просфору из Богоявленского собора. Лосев был тронут, размял ее в руке и сказал: "Главное, ничего не бойся. Ничего они тебе не сделают. Не могут сделать. Если бы я не верил, что свижу своих родителей — я бы не стал жить и работать. Да что родителей! Я уверен, что даже свою родную гимназию в Новочеркасске увижу своими глазами до каждой трещинки в штукатурке". Да ведь это настоящее исповедание веры»[2].
Мы все как будто веруем, но как же нам далеко до Алексея Федоровича. Вскоре после его смерти приснился мне сон. Будто я на кухне, еще в своей старой квартире, дверь открыта и через коридор, длинный и узкий, видна входная дверь. Вдруг звонок, Аза Алибековна открывает дверь, и я вижу, что пришел Алексей Федорович; в черном пальто, спокойный, улыбающийся, зрячий. Я смотрю на него — и счастье. Такая радость во сне, что дух перехватывает. Аза Алибековна повела его в кабинет, а я заметалась по кухне совершенно бестолково. Что дать, чем кормить?! Не ждали. И вдруг смена ощущений, растерянность от мысли: «Как же он теперь жить будет? Ведь паспорт его сдали в милицию!» На этом и счастью конец, да и сон кончился. Вот она и разница. Алексей Федорович наяву верит, что там с родителями свидится, а я даже во сне ужасаюсь, что он вернулся, а паспорта нет. И не одна я такая.
В той же «Беседе…» П.В. Флоренский высказывает предположение, что Лосев не писал о христианстве из благоговения. Вряд ли. Был случай, который произошел в 1980 г. Вечером на Арбате — разговор с Алексеем Федоровичем в кабинете об издательских делах. Совсем темно, только настольная лампа горит. В полумраке сидит в кресле за столом Лосев. Нас разделяет массивный письменный прибор. Алексей Федорович настроен благодушно, и вообще атмосфера благостная. Как-то к этому пришел разговор и я спрашиваю: «Алексей Федорович, почему вы не пишете о христианстве? Другому десять лет надо, а вы все знаете. Кто же напишет? Уж пора написать». Алексей Федорович слушал-слушал мои восклицания и вдруг разволновался, даже щеки порозовели. Как-то разгорелся от этого разговора. Потом говорит: «Ты же знаешь, что я делаю историю эстетики. Надо сначала закончить с античностью». Тут появляется Аза Алибековна, видит, что Алексей Федорович взволнован и спрашивает, о чем речь. Я признаюсь в своих призывах. Кого Аза Алибековна никогда не ругала, тот меня и не поймет. Досталось мне, как теперь говорят, по полной программе. И чтоб никогда больше об этом не спрашивала. Но ведь ответ все равно уже был дан. Какой же вывод? Время. Много времени у Лосева отнято было. Не успел. Жаль, но и на это Божья воля. И впоследствии Алексей Федорович говорил: «Кто-нибудь напишет».
Уже упоминалось, что Алексей Федорович с большим уважением относился к людям и, в частности, к молодежи; знал, кто что делает, ссылался в своих трудах на работы молодых. Это имело большое значение для тех, кто шел в науку.
Однажды мы были на Арбате с Кашкаровым, собрались уходить. Алексей Федорович пошел в кабинет, а Юра опять за ним. Мы здесь разговариваем с Азой Алибековной, а Юра опять продолжает свои речи, и дверь настежь. Вдруг слышу, как Алексей Федорович говорит: «Да, был тут Аверинцев, приходил. Спросил его, чем занимаешься? А Сережа говорит: «Диоге-е-ен Лаэ-э-эрций.» Да все с прононсом произносится. Юра начал так смеяться, что дальше ничего не разобрать. Но если не знать, что в кабинете двое, можно было думать, что и Сергей Сергеевич там. Пародировал Алексей Федорович удивительно, когда веселился. Наверное, это связано с абсолютным музыкальным слухом. Кто этим не обладает — ничего не изобразит. А вообще не один раз Алексей Федорович говорил: «Помяните мое слово, Сережа будет академиком». Так и случилось.
Сам же Алексей Федорович академиком не стал. Когда только началась перестройка, то Академия наук стала бурно расширяться. Многие захотели академиками стать. Тогда на Арбате мнения разделились. Одни говорили, что Лосеву надо участвовать в выборах, другие — что туда ходить не надо. Но документы Аза Алибековна все-таки подала, и кое-какие шаги, как и все, предпринимала. В том числе и мне поручила, чтобы я попросила Г.К. Вагнера переговорить с Д.С. Лихачевым о поддержке. Лихачев обещал поддержать, но потом выяснилось, что кандидатура Алексея Федоровича не прошла по возрасту. Конечно, давно бы надо было выбирать, да известно какая была жизнь. Не до жиру, быть бы живу. А теперь по совокупности трудов и заслуг — все в порядке, а по возрасту не проходит. Помнится, в то время Аза Алибековна говорила мне: «Да не надо нам денег. Нам нужно справедливое признание. Выбрали бы почетным академиком, да в нашей Академии этого нет». Одним словом, Аверинцев прошел, а Лосев — нет. Но самому Алексею Федоровичу про то, что документы подавали, ничего не говорили, что и хорошо. Незачем человека понапрасну расстраивать.
Зато дали Лосеву орден Трудового Красного Знамени. К этому времени он как раз заболел пневмонией. Всем вручали в Кремле, а ему дома. Приехала в ухабистый двор правительственная «Чайка». Вручался орден в кабинете заместителем министра просвещения со свитой. Оказалось, что этот чиновник тоже учился у Алексея Федоровича. Температура у Лосева была далеко за 38°. Но он был подобающе случаю одет, стоя за письменным столом выслушал все торжественные речи, а потом благодарил, начав так: «Я, как римский солдат, умираю стоя!», и сказал, что работал, как ломовая лошадь.
После этого надолго слег. Тяжелым был этот период жизни Лосева.
А раньше, когда Алексей Федорович был здоров, какие бывали действа! Вспоминается его 85-летний юбилей. Это было в овальном зале Пединститута. Теперь все иначе называется и люди стали иные. А тогда это было так. Привезли Алексея Федоровича на торжество, он был в хорошем настроении. Съехалась вся научная Москва, да еще студентов много; уж они на него смотрели как на… Не знаю, как сказать. Наверное, как на живую легенду. Зал там амфитеатром и полон был людьми до краев. Много выступающих отовсюду.
Вышла приветствовать ученая дама из Киевского университета. На ней была шерстяная кофта с поясочком по послевоенной моде, в правой руке папка с бумагами, а в левой — авоська и в ней большая коробка с тортом «Полёт». Тогда этот торт пекли только в Киеве, вот и привезла в подарок. Зал вообще очень живо реагировал на подарки. Дама сказала, что привезла поздравление на латыни и прочитала его. Алексей Федорович встал и по-латыни же произнес ответную речь. Кессиди вышел, говорил и подарил камешек от Парфенона (сказал, что отколол сам) и лавровый венок. Вышел посланец от Тбилисского университета и, положив на кафедру бурдюк с вином, тоже произнес приветствия и пожелания. Гасан Гусейнов прочитал поздравительную «телеграмму» от божественного Платона. Кажется, на эту «телеграмму» Алексей Федорович стал отвечать по-гречески. Произнес целую речь. В один момент вдруг остановился и долго молчал. Тишина в зале была мертвая. Рядом со мной сидел молодой человек, который страстным шепотом стал повторять: «Забыл! Забыл слово! Замените слово! Замените слово!» Потом Алексей Федорович спокойно продолжил речь, после этой большой паузы. И зал выдохнул с облегчением.
Вот на какой высоте была планка у Алексея Федоровича в глазах всех. Как это, вдруг слово забыл! И это в восемьдесят-то пять лет! А ведь кто к нему обращался, многие читали по бумажке. Такого действа мне больше видеть не приходилось, и очень жаль, что не сняли тот юбилей на пленку. Никто и не подумал об этом. В заключение Лосев произнес речь о вечно юной науке, которую надо любить.
Юбилей, на котором праздновалось девяносто лет, был такой же торжественный, но другой. Алексей Федорович был печален. Один из выступающих, П.В. Палиевский сказал: «Алексей Федорович, я вам завидую. У вас есть Аза Алибековна и библиотека». Действительно, чем Алексей Федорович прямо-таки гордился, так это своей библиотекой. Как-то еще в семидесятых годах говорил мне с веселым вызовом: «У меня знаешь какие книги есть? — каких и в Ленинке нет!»
Запомнилось, как долго и причудливо выступал Аверинцев; закончив говорить, долго молча кланялся Лосеву в пояс, на старинный русский лад. Странно. Юбиляр этого видеть не мог, только публика.
В конце, отвечая выступавшим, Лосев сказал, что истина без человека быть может, а человек без истины — нет. Это прозвучало как напутствие всем присутствующим.
[2] А.Ф. Лосев: Ойкумена мысли. Уфа, 2005. С. 53.
, , , , стр. 5, , , , ,
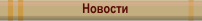
- Культура – вещь бескорыстная. Беседа с Еленой ТАХО-ГОДИ.
- 02 - 11 сентября 2016 года - Всероссийский фестиваль энергосбережения "ВместеЯрче"
- 6 сентября 2016г. Ярмарка вакансий для молодёжи "Первый шаг к успеху"
- 12-24 сентября 2016г. Международная научная конференция XV «Лосевские чтения»
- 21- 25 сентября 2016 г. Российский форум коллекционеров
- 8 – 9 декабря 2016 г. Международная научная конференция «Д.С.Мережковский: писатель – критик – мыслитель. К 75-летию со дня смерти»
- Программа "Читаем Аристотеля" в Библиотеке "Дом А.Ф. Лосева".
- Детская студия «Карандаш и кисточка»
- Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы» Программы
- Семинар «Русская философия» Программы
- Архив новостей
 '
'
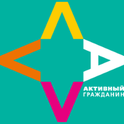
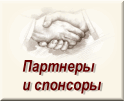


-
В августе 2016 года исполняется:
- 14.08 — 150 лет со дня рождения Д.С. Мережковского
- 28.08 — 105 лет со дня кончины Д.Н. Цертелева
- 28.08 — 125 лет со дня рождения В.Н. Ильина
подробнее об этих и других событиях...
2016 - Год Аристотеля...
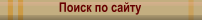
|