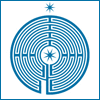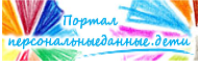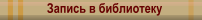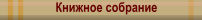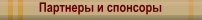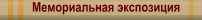СЕМИНАР «РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ»
«ВЕЧНОСТЬ НЕОТДЕЛИМА ОТ ТВОРЧЕСТВА И ВОСКРЕСЕНИЯ»
(Жизнь и философское наследие Валериана Муравьева)
Философ, публицист, общественный деятель Валериан Николаевич Муравьев (1885–1930) принадлежит к тем представителям русской мысли XX века, творчество которых только начинает осваиваться историками философии. И дело не в масштабе его как мыслителя – масштаб Муравьева сопоставим с масштабом ведущих фигур религиозно-философского подъема 1900–1910-х гг., – дело в том, что период философской зрелости автора «Овладения временем» (единственная книга, по которой его знают историки философии) пришелся на 1920-е гг., и протекал он не в эмиграции, а в Советской России, где возможность печатного обнародования религиозно-философских сочинений (а именно таковые создавал Муравьев) после знаменитой высылки философов 1922 года была почти равна нулю. Если в предреволюционное десятилетие статьи молодого Муравьева время от времени появлялись на страницах журналов «Московский Еженедельник», «Русская мысль», «Русская свобода», а в 1918 г. он был ведущим автором газеты «Заря России» и написал статью «Рев племени» для сборника «Из глубины», то в 1920-е годы он в основном пишет «в стол», в печать же проходит немногое, а если проходит, несет на себе следы жесткой самоцензуры.
Архив мыслителя сильно пострадал в результате ареста в 1929 г.: согласно протоколу обыска было изъято более 2000 листов рукописей – беловые тексты основных сочинений, а также обширная переписка [1]. И тем не менее, хотя и с большими лакунами, многое из написанного им сохранилось – во вторых и третьих экземплярах машинописей, в черновых рукописях, ныне находящихся в составе личного фонда В.Н. Муравьева в НИОР РГБ. Это философская мистерия «София и Китоврас», работа «Культура будущего», главы и фрагменты работ «Оправдание истории», «Философия действия» и др. По черновым наброскам, отдельным фрагментам и планам можно судить об утраченных или незавершенных рукописях, в частности, о большом сочинении «Введение в философскую теорию множественности», о замысле книге по философии имени, философско-публицистическом цикле «Письма о социализме». В разрозненном состоянии находится философский дневник В.Н. Муравьева 1920–1922 гг., уникальный документ эпохи. Сохранились в архиве и художественные сочинения: пьеса «Советник смерти», социально-утопический роман «Остров Буян», прозаический цикл «Неприятные рассказы», литературные наброски. Интересны письма Л.Д. Троцкому, в которых развернута резкая критика марксистской идеологии и вместе с тем сделана попытка понять причины ее торжества на русской почве, исторические корни идеи социализма.
Тексты философских и художественных вещей, материалы работы над ними, планы и наброски не только раскрывают Муравьева как оригинального мыслителя, но и дают представление о круге его творческого общения. А в этом кругу были Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, оказавшие на Муравьева, по собственному его признанию, «большое влияние» [2], о. Павел Флоренский, А.Ф. Лосев, члены имяславческого кружка Г.А. Рачинский, Д.Ф. Егоров, П.С. Попов, вместе с которыми он подписал имяславческое исповедание веры [3], философы «федоровской» ориентации А.К. Горский и Н.А. Сетницкий, связанные с Муравьевым проективным характером мышления, общностью историософских тем и сюжетов, идеей «активной апокалиптики», историк С.А. Котляревский и биолог Н.К. Кольцов и др. Некоторые из указанных фигур явились прототипами персонажей повести (а потом пьесы) «Советник смерти». На докладе, во время которого главный герой, профессор Рудный выступает с апологией самоубийства как единственного акта достоинства и свободы, остающегося человеку перед лицом бессмыслицы существования, присутствуют о. Владимир Медиоланский, «знаменитый математик и философ, прогремевший своим участием в Афонском споре как защитник Булатовича» (прозрачный намек на о. Павла Флоренского), «поэт и писатель, последователь федоровской философии – Николай Игнатьевич Постышев» (А.К. Горский), «известный врач-биолог» С.Д. Нефорощин (Н.К. Кольцов) (II, 497).
Начавшаяся в 1990-е гг. в России публикация наследия Муравьева постепенно возвращает его имя читателю (что касается Европы, то еще в 1983 г. немецкий историк философии М. Хагемайстер выпустил репринт «Овладения временем»). Г.П. Аксеновым были сделаны публикации в журналах «Вопросы философии» (1992. № 1) и «Библиография» (1993. № 1), изданы «Избранные сочинения» мыслителя (М.: РОССПЭН, 1998). В.Г. Макаров напечатал материалы следственных дел В.Н. Муравьева 1920 и 1929 гг. [4] В 2011 г. в ИМЛИ РАН вышло двухтомное издание «Сочинений» мыслителя, подготовленное по материалам его личного архива.
Один из афоризмов В.Н. Муравьева (афористический жанр привлекал его синтетичностью выражения мысли, способностью вместить в малом словесном пространстве большие смысловые пласты, умением через часть видеть целое) начинается словами: «Вечность неотделима от творчества и воскресения» (II, 545). Это динамическое толкование вечности в высшей степени характерно для Муравьева-мыслителя, опиравшегося на активно-христианскую концепцию Н.Ф. Федорова, с трудами которого он познакомился в 1920–1921 гг. Мысль Федорова о человеке как соработнике Творца на земле, призванном к «восстановлению мира в то благолепие нетления, каким он был до падения» [5], к соучастию в исполнении не только нравственных, но и онтологических обетований христианства: преодоления смерти, воскрешения умерших, преображения земли и всего универсума в Царствие Божие, оказалась глубинно близка Муравьеву.
В статье «Рев племени» (1918) в связи с событиями русской революции Муравьев ставил вопрос о религиозно-нравственных основаниях социального действия. В 1920-е гг., опираясь на Федорова, он говорит об онтологическом его фундаменте, о невозможности строить совершенное общество в несовершенном, страдальческом бытии, вверженном во власть «смерти и временности» (выражение Н.А. Бердяева). Углубляет на основе активно-христианской концепции Федорова и свои теократические воззрения. Еще в статьях 1910-х гг., критикуя узкий духовный горизонт партийных лидеров, Муравьев подчеркивал: подлинное государственное строительство призвано быть «правовым», «культурным» и «религиозным», причем религиозное начало должно быть всепроникающим, одушевляющим все сферы жизни. Подобно Достоевскому утверждал, что вершина развития общественности, «последний идеал Государства» – не секулярные, половинчатые союзы, а Церковь. Теперь, опираясь на Н.Ф. Федорова, он выдвигает конечной задачей Церкви преодоление смерти, творческую регуляцию материи, воскрешение умерших и духо-телесное преображение живущих.
Церковь в такой теократии видится средоточием соборного, богочеловеческого действия, тем сосудом, через который благодать Божия изливается в мир, проникая во все его уголки, исполняя огнем вдохновения знание и творчество человека. Это церковь, которая не только не враждует с наукой, но становится ее водительницей и вдохновительницей, дает смысл и цель ее открытиям. Развитие науки в истории шло по линии обособления от Церкви, в результате чего «Церковь осталась без орудия действия, но наука, ставшая обособленным, самодовлеющим действием, стала действием слепым и случайным». Современная наука, подчеркивает Муравьев, «не имеет общей цели и служит частным целям, ничем не связанным и часто друг другу противоречащим», отсутствие в науки нравственных ориентиров, неимение высшей цели приводит к тому, что наука начинает одновременно работать и на созидание, и на разрушение. Соответственно «задача Церкви именно в том, чтобы дать ей эту цель. Научное действие должно стать церковным делом преображения мира» (I, 453, 454).
Образ такой «единой и соборной науки» (I, 454), воскресительной и жизнетворческой, не раз встает на страницах писаний В.Н. Муравьева. Как и образ новой культуры, политики, экономики, педагогики. Мыслитель намечает пути преображения межчеловеческих отношений, на которых преодолеваются извечные антиномии между «я» и «не-я», между частным и общим, индивидом и обществом. Принцип соборности дает основание братски-любовному, целостному союзу уникальных, неповторимых личностей, их творческому взаимодействию. Этот принцип универсален, он есть энтелехия не только людского общежития, но бытия, многоликого универсума, являющего собой распадшееся всеединство, к восстановлению которого призван человеческий род.
Творческое действие человеческого соборного целого у Муравьева распахивается за пределы земли, получает универсальное, космическое измерение. Новозаветное откровение о Иерусалиме Небесном прочитывается им как откровение о преображенной Вселенной. Но если в традиционном истолковании пророчества Иоанна рождению «нового неба и новой земли» предшествовала катастрофа: история, превратившаяся в арену апокалипсической битвы добра и зла, трагически обрывалась, то Муравьев, опираясь на идеи Федорова, вместе с А.К. Горским и Н.А. Сетницким защищает идею активной апокалиптики, согласно которой история, коль скоро станет она соборным, богочеловеческим деланием, ведет к Новому Иерусалиму, но ведет не через катастрофу, а через преображение мира, через обоживающую регуляцию.
В 1921–1925 гг. Муравьев работает над текстом религиозно-философской мистерии «София и Китоврас», стремясь представить в ней те искания идеального строя жизни, которые, по его мысли, составляют сокровенную суть истории, отечественной и всемирной. В наследие от культуры Серебряного века берет и форму, и проблематику своего сочинения, соединяет две линии разработки софийной темы, богословскую (шедшую от философских сочинений В.С. Соловьева к П.А. Флоренскому и С.Н. Булгакову и выводившую к новой постановке вопросов христианской космологии и антропологии) и художественную, представленную в эстетике и художественной практике русского символизма ( А. Блок, А. Белый, В. Иванов, полифонически развивавшие мотивы соловьевской поэмы «Три свидания»).
Главная героиня мистерии — молодая женщина София, не удовлетворенная миросозерцательным хаосом интеллигентской богемы, жаждущая «не только знания, но и жизни». Уже несколько лет является она участницей религиозно-философского общества, члены которого стремятся «найти и построить идеальное царство человеческих отношений» (I, 73), но с каждым годом разногласия между ними все сильнее и все дальше уходят они друг от друга. И вот в одну из весенних Петербургских ночей в садике перед Исаакиевским собором София неожиданно встречается с Китоврасом, мифологическим существом из древнерусского апокрифа («Повесть о Соломоне и Китоврасе»), изображавшимся в Древней Руси в виде Единорога или чаще Кентавра, как «на Корсунских Вратах Софийского Храма». Диалог между ними затрагивает предельные вопросы о бытии и человеке, об эволюционном его назначении и искажении этого назначения в современной, обезбоженной цивилизации. В конце диалога Китоврас открывает Софье, что она является земным воплощением Софии Премудрости. А в следующих сценах-видениях становится ее Вергилием «по царствам», воплощающим разные философско-религиозные представления об идеальном человеческом строе.
Первоначально Муравьев выстраивал мистерию на материале русской культуры. И сами строители царств, которые проходили София и Китоврас в своем странствии, получали имена персонажей древнерусских былин, притч, повестей: западную культуру представлял Аника-воин, идею одинокой, самостийной личности — богатырь Святогор, идею социализма — Полкан из переводной «Повести о Бове-королевиче». В первой редакции мистерии к ним присоединялся Егорий, персонаж духовного стиха о Егории Храбром. Муравьев писал об этом герое еще в публицистических статьях 1910-х гг., видя в нем олицетворение «русского народа». Егорий, согласно народной легенде, «сын Софии-Премудрости» — и это не только поэтический образ, но символическое указание «родства России со всем миром, со всем творением». Родства и сердечного боления за бытие, за всякое, пусть и самое малое создание Божие». «Творческие подвиги Егория», которые рисует духовный стих («по его велению разрастаются леса, бегут реки, становятся горы, живут звери, рыбы, птицы»), прочитываются Муравьевым в контексте наследия религиозно-философской мысли Н.Ф. Федорова, В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова: он видит в них выраженную народным языком идею регуляции природных сил, просветления, космизации мира.
По мере эволюции замысла «Софии и Китовраса» Муравьев выходит за пределы только русского материала, прививает древнерусские искания Царства к древу европейской культуры, обращается к образам, придающим исканиям его героев мировой, всеисторический смысл. Так возникает в мистерии образ Бенсалема, утопического острова из «Новой Атлантиды» Френсиса Бэкона, являющего собою картину гармоничного христианского социума, что покоится на сотрудничестве веры и знания, этики и науки. При этом, если Бенсалем Фрэнсиса Бэкона соотносится прежде всего со светской литературно-философской утопией — «Утопией» Т. Мора и «Городом солнца» Т. Кампанеллы, то Новый Бенсалем», являющийся в финале мистерии Муравьева, отчетливо проецируется на «Новый Иерусалим» 21 главы «Откровения»: это не просто совершенное устроение социума, но обоженное миростроение, и преображающая активность рода людского имеет здесь не земной, но вселенский масштаб.
Присутствует в мистерии и третий уровень развития темы — универсально-космический, охватывающий уже не только русскую и западную культуру, и вообще не только культуру и не только историю, но бытие в целом. К диаде «Бог — человек» Муравьев прибавляет третий член — «мир». И вопрос о смысле истории становится вопросом о смысле бытия, о месте человека в универсуме, о его роли в предвечном Божественном замысле. Этот уровень вводится Муравьевым в мистерию через гностические мотивы. При этом гностический миф, подобно тому как это было у В.С. Соловьева, преломляется философом сквозь христианскую призму. Муравьев ценит выразившееся в гностицизме острое переживание несовершенства смертного, страдающего бытия, напряженное алкание Абсолюта, прочитывая его сквозь христианское печалование о мире, лежащем во зле. Сияющий образ «Плеромы», божественной полноты бытия соединяется в его творчестве с образом грядущего «Царствия Божия», где «будет Бог все во всем» (1 Кор. 15:28). Но если в гностицизме в Плерому входят лишь спиритуальные сущности, а материя, результат падшести, ошибки творения, сгорает, освобождая их от тяжелого, душного плена, то у Муравьева, философа христианской ориентации, просветляется все бытие, духовное и материальное в их нераздельности.
Первоначально Муравьев писал «в стол», позднее начал надеяться, что мистерию удастся напечатать в Советской России. Но для этого нужно было сделать текст более «проходным», способным протиснуться сквозь узкую щель идеологической цензуры. На протяжении месяцев Муравьев правит написанное, создает новые варианты диалогов, вносит изменения в композицию. Максимально старается сохранить масштаб своих размышлений об истории и культуре как богочеловеческом деле, о Церкви как совершенном всеединстве, основанном на любви. Слои правки на рукописях отчетливо демонстрируют, как создает мыслитель собственный «эзопов» язык, заменяя слово «Церковь» словом «Космос», «теократию» — «космократией», зачеркивая определения, имеющие отчетливую религиозно-философскую окраску, и вписывая более приемлемые и религиозно-нейтральные: «космократический» вместо «теократический» и «церковный»; «коллективный» — вместо «соборный», «общеисторический» — вместо «мессианский» и т. д.
Впрочем, в заменах подобного типа был и другой, созидательный смысл, отвечавший коренному убеждению Муравьева — что и идея коммунистическая, и идея христианская, равно как и множество других идей, рожденных человечеством на протяжении его истории, выражают одно общее искание — совершенного строя жизни, одно чаяние — полноты, всеединства, бессмертия, другое дело, что социализм и коммунизм выражают их редуцированно и оплощенно, а христианство — целостно и объемно. Это замечательно выразил Муравьев в одном из видений статьи-медитации «Человек в жизни», где взору автора, рассказывающего о своем мистическом опыте, предстает образ миллионов людей, разных национальностей, верований, убеждений, но влекомых одною мечтой, одним помышлением, «страстью истины и голодом неба» (I, 50) — все выше и выше к сияющим высотам блага и совершенства.
Сознание этой глубинной общности духовных исканий рода людского и позволяет Муравьеву выражать одну и ту же идею как бы на двух языках — религиозно-философском, рожденном в лоне верующего, целокупного разума, и обмирщенном, детище секулярного мышления и культуры. Второй язык он активно будет использовать в статьях, предназначенных к напечатанию в советской прессе, в книге «Овладение временем как основная задача научной организации труда» (1924).
Уже в мистерии «София и Китоврас» одной из главных тем была тема времени. «Время — что это такое?» — спрашивает Китовраса София. И тот разворачивает перед ней целостную концепцию, основанную на диалектике понятий «времени», «вечности», «жизни». Что касается «Овладения временем» (первое, «неподцензурное» заглавие – «Преодоление времени»), то книга вырастает из его занятий диалектикой единства и множественности, интерес к которой стимулируется общением с философами А.Ф. Лосевым и П.А. Флоренским, математиками Д.Ф. Егоровым, Н.Н. Лузиным, В.В. Степановым. В архиве Муравьева сохранились многочисленные планы и наброски, связанные с трактовкой «парадоксов единства и множественности», с замыслом большой работы «Введение в философскую теорию множественности» — от пифагорейцев, элеатов, Платона, Аристотеля до Лейбница и Георга Кантора. Он анализирует понятие трансфинитных чисел и рассуждает о Церкви как об «идеальной омеге», совершенном множестве, вбирающем в себя мир. В 1924 г. мыслитель завершает большую работу «Ипостасийное построение множественности», предназначенную для задуманного А.Ф. Лосевым «ряда сборников» по философии математики [6].
Анализ философских проблем математики, включающий разбор теории множеств Г. Кантора, сопрягается у Муравьева, как и у его собеседников А.Ф. Лосева и П.А. Флоренского, с размышлениями над философией имени, с построением «логики имен», в которой Муравьев видит «истинную философскую логику», долженствующую заменить логику, основанную на понятиях. Теорию множеств он активно использует и в трактовке проблемы времени. Мир состоит из множественностей, каждая из которых представляет собой свою множественность элементов. Время — показатель динамики множеств. А значит оно обратимо, и борьба с ним может идти через возобновление той комбинации элементов вещей и существ, которая имела место до их гибели, исчезновения. Целенаправленная деятельность человека в мире — деятельность «времяобразующая». Человеческая история движется в направлении расширения власти над временем, идет к полному овладению и управлению им.
Проблема овладения временем тесно связана для Муравьева с новой, расширенной трактовкой понятия «труд». Мыслитель рассматривает это понятие не столько с точки зрения политэкономической, сколько в плане философской онтологии и антропологии, определяет его как мироустроительную, созидательную деятельность человека в бытии, деятельность целенаправленную, сознательно-творческую, противостоящую силам дезорганизации и распада. Такая трактовка напрямую перекликается с идеями мыслителей-космистов естественнонаучной ориентации — С.А. Подолинского и Н.А. Умова с их представлениями об антиэнтропийной сущности жизни и труда человека, служащих возрастанию энергии, увеличению «стройности» в природе и космосе, предшествует ноосферным идеям Вернадского, видевшего в разуме и творческой деятельности человека «великую геологическую силу». Но одновременно она корреспондирует с религиозно-философским взглядом на труд у Н.Ф. Федорова, В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, где человек выступает как соделатель и соработник Творца, призванный продолжить дело Божьего творения, и в этом высшее оправдание и высшее задание его труда.
Религиозно-философский смысл понятия «труд», восходящий к заповеди «обладания землей», данной Творцом человеку, к евангельскому слову Спасителя: «Отец Мой доныне делает и Я делаю» (Иоанн. 5:17), явственно прочитывается в мистерии «София и Китоврас». Соответственно и проблема «преодоления времени» переводится здесь в эсхатологический план, сопрягаясь с темой «свершения времен», с видением конечного состояния твари, где ни смерти, ни времени больше не будет. В книге «Овладение временем», предназначенной для советского читателя, Муравьев был вынужден затушевать этот смысл, и все же (по принципу sapienti sat) он проступает сквозь строки о «космократии», о действии, измеряемом «свойствами действующего множества — его мощностью (в смысле количества) и степенью его внутренней соборности», когда «победа над временем строго пропорциональна степени этой соборности» (II, 47).
Одна из центральных тем в книге «Овладение временем» — тема культуры, занимавшая Муравьева на протяжении многих лет. Еще до начала работы над книгой о времени он намеревался написать книгу о культуре, сделав ее своего рода философским исповеданием веры, обобщить в ней те идеи и понимания, что стали итогом его внутреннего развития в 1917–1922 гг. Он хотел дать свою трактовку вопроса о смысле культуры, духовных ее основаниях, кризисе современной культуры и путях его преодоления, который активно обсуждался в первые пореволюционные годы в литературных и религиозно-философских кругах. Книга написана не была, но ряд разделов плана, связанных с интерпретацией темы культуры в дохристианскую эру, в эпоху Средневековья и Возрождения, с активно-христианским пониманием культуры, был представлен в диалогах Софии и Китовраса, а замысел раздела, касающегося основ будущей культуры, нашел свое воплощение в работе «Культура будущего» (1925).
Муравьев развивал, прямо смыкаясь с о. Павлом Флоренским, представление о культуре как начале организации, что противостоит «слепому действию природных сил, ведущих к бесформенному состоянию или небытию», как творчески-преобразовательной (на религиозном языке — преображающей) деятельности человека в мире. Культура для него не избыток, не роскошь, скрашивающая существование человека, но столь же рановеликая составляющая бытия, как жизнь и сознание. А творчество культуры есть эволюционный долг человека, который есть в то же самое время и его религиозный, божеский долг.
Муравьев выделяет два основных типа культурного творчества: символический, в котором совершается творчество идеальных образцов (искусство), исследуются пути, рождаются проекты и планы пересоздания жизни (философия и наука), и реальной, к которым отнесены «те виды деятельности, которые реально, а не только в мысли и в воображении изменяют окружающий нас мир. Это экономика, производство, земледелие, техника, медицина, евгеника, практическая биология, педагогика и т. п.» (II, 133). По убеждению мыслителя, в истории человеческой цивилизации эти два типа культуры оказались разорваны и разобщены, однако в «новой культуре будущего», уже сознательно поставляющей перед собой задачу регуляции, деятельность «теоретически-символическая» и деятельность реально-трудовая должны соединиться, ведя ко всецелому преображению мира и человека.
«Преобразование вещей и организмов» (II, 153) неразрывно связано у Муравьева с преобразованием духовно-нравственным. Это две стороны одной медали, одно без другого не существует. Более того, голая материальная перестройка, подчеркивает мыслитель, деформирует сами основы действия. Осенью 1926 г. Муравьев пишет друзьям-единомышленникам из разоренного монастыря Новый Афон, где переживает своего рода малое откровение, об отсутствии в современной секулярной культуре идеи духовно-нравственного возрождения человека. И со своей стороны выдвигает «культуру духа», которая вовсе не равняется «культуре интеллекта» (I, 511), но собирает всего человека, его мысль, чувство, волю, поведение, подчиняя их верховному идеалу, источник которого — Бог.
[1] Отечественные архивы. 2003. № 1. С. 103 (публ. В.Г. Макарова).
[2] Муравьев В.Н. Сочинения: В 2 книгах. Кн. 2. М., 2011. С. 379. В дальнейшем ссылки на это издание даются в скобках после цитаты. Римская цифра указывает том, арабская – страницу.
[3] См.: Тахо-Годи А.А. Лосев. М., 2007. С. 115–116.
[4] Макаров В.Г. Муравьев В.Н.: Очеловеченное время // Вопросы философии. 2002. № 4. С. 100–128.
[5] Федоров Н.Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1995. С. 401.
[6] См.: Тахо-Годи А.А. Лосев. С. 81.
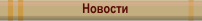
- Культура – вещь бескорыстная. Беседа с Еленой ТАХО-ГОДИ.
- 02 - 11 сентября 2016 года - Всероссийский фестиваль энергосбережения "ВместеЯрче"
- 6 сентября 2016г. Ярмарка вакансий для молодёжи "Первый шаг к успеху"
- 12-24 сентября 2016г. Международная научная конференция XV «Лосевские чтения»
- 21- 25 сентября 2016 г. Российский форум коллекционеров
- 8 – 9 декабря 2016 г. Международная научная конференция «Д.С.Мережковский: писатель – критик – мыслитель. К 75-летию со дня смерти»
- Программа "Читаем Аристотеля" в Библиотеке "Дом А.Ф. Лосева".
- Детская студия «Карандаш и кисточка»
- Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы» Программы
- Семинар «Русская философия» Программы
- Архив новостей
 '
'
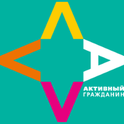
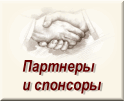


-
В августе 2016 года исполняется:
- 14.08 — 150 лет со дня рождения Д.С. Мережковского
- 28.08 — 105 лет со дня кончины Д.Н. Цертелева
- 28.08 — 125 лет со дня рождения В.Н. Ильина
подробнее об этих и других событиях...
2016 - Год Аристотеля...
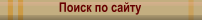
|