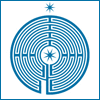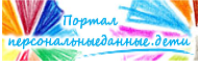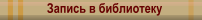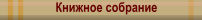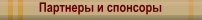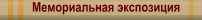Бюллетень. Выпуск пятнадцатый. Из воспоминаний
Г. Д. Белова. Поминайте учителей и наставников ваших...
(Памяти Алексея Федоровича Лосева)[1]
Жизнь наша тогдашняя продолжалась и всё такая же беспокойная. Возмечтал Кашкаров уехать заграницу. Причин, как ему казалось, было много. Сначала мечтал тайно, а потом и явно. И сразу стал волноваться: не повредит ли это старику? Ведь он редактор его работ. По зрелом размышлении решили, что если ехать без шума, сразу, как бы тайно, то ничего. Старик будет ни при чем. После чего Данилыч побежал на Арбат. Там его убеждали не уезжать, предлагали одолжить денег на кооператив, чтобы жить отдельно от матери, но ничего не помогло. Очень уж хотелось.
Уехать в те времена было трудно, но можно. Евреям. Хитроумный наш Одиссей разузнал, что во время войны архив города Курска не успели вывезти и он весь утрачен. Это первое. Во-вторых, верные, уже отъехавшие московские евреи организовали ему родственный вызов из Израиля. Тут не обошлось без затруднений. Наш «еврей» Кашкаров пришел в редакцию и говорит, что получил вызов от человека, но по имени и фамилии не может определить мужчина это или женщина. А ведь надо знать, кто тебя вызывает — дядя или тетя! Мы тоже определить не смогли. Пришлось ему обращаться к знающим ортодоксальным евреям. Те определили. Вздохнув посвободнее, Юра пишет заявление, что у него была бабушка еврейка, жила до войны в Курске и там погибла. А теперь его вызывают родные на историческую родину. После этого с большой опаской ждет результата и отращивает усики.
Мне-то кажется, что в КГБ тогда были умные сотрудники. Небось решили наплевать на всю эту липу: хочешь, ну и езжай! Забегая вперед, скажу, что когда в один из невыносимых приступов ностальгии Данилыч хотел вернуться, то его мама, Елизавета Федоровна Попова, большевичка до мозга костей, заслуженная учительница, награжденная в числе прочего и орденом Ленина, пошла в КГБ. Там ее приняли двое в штатском, она стала просить, а потом и настаивать, чтобы ему разрешили вернуться, потому что он больной. Они ей ответили: «Больной? Ну, сидел бы здесь и лечился! У нас медицина бесплатная. А вы, уважаемый человек, а сына распустили!» И отказали. Этим тогда дело и кончилось. Но это потом.
А тогда получает Юрий Данилович разрешение на выезд и бежит в Охотный ряд фотографироваться на загранпаспорт. Принес потом паспорт, показывает фото и спрашивает, похож ли он на еврея. Похож, говорю, все равно ведь главное, что у тебя бабушка из Курска еврейка.
Получивши документы, отправив, в целях конспирации, багаж в Израиль и взяв билет до Вены, направился Юрий Данилович на Арбат, прощаться. Пришел и рассказывает: «Я говорю старику, что еще увидимся, а он мне сказал, что теперь уж не увидимся: уехал — все равно, что умер, это как покойник». Но рассказал мне Данилыч не все. Позже я узнала, что Алексей Федорович сказал еще так: «Не будет вам Юра с Сашей счастья!» По большому счету старик оказался прав, так оно и вышло. И, наверное, переживал, что его лучшие верные издатели разъезжаются, бросают его. Ведь Саша Воронин тоже много издавал Лосева и перед своим отъездом в Чехословакию издал в «Мысли» «Эстетику Возрождения».
Саша Воронин через несколько лет вернулся в СССР. За непротокольное поведение (с политической подкладкой) он был объявлен персоной нон грата и выслан в 24 часа из Праги; карьера его была сломана. Алексея Федоровича он по-прежнему любил, приходил в гости, даже строил какие-то планы. Но при всем своем блистательном интеллекте начальником Саша уже не был и помочь Лосеву в издательских делах не мог.
Кашкаров первый раз приехал из Америки в Россию в 1988 году и попал точно на сорок дней по Алексею Федоровичу.
Юра Кашкаров прожил в Америке восемнадцать лет, занимался журнальной деятельностью, написал прекрасную прозу, но в первое время было ему там очень лихо. Переписываться с ним было нельзя, но окольным путем сведения до нас доходили. Матери он писал бодрые письма, но доходила до Арбата и печальная правда. Я остро переживала Юрины несчастья, и мы обсуждали это. Остались у меня записи того времени, читая которые, надо сделать скидку на молодость писавшего, то есть мою.
Приведу фрагменты этой записи, касающейся Алексея Федоровича.
«25 марта 1977 г.
Я пошла в субботу, (это, наверное, 20-го марта), к Лосеву; понесла работу. Встретили меня как всегда очень любезно, и даже, пожалуй, теплее обычного. Сначала мы беседовали с Азой Алибековной и я ей показывала, что и как сделано из шестого тома, что надобно бы проверить секретарям и т. д. Она дала мне еще большой кусок, который вряд ли будет легче, тем более, что это двести нестандартных страниц от руки. Буду делать. Надо все это сделать, чтобы потом меньше мороки. Мы разговаривали по делам и очень громко, строили планы как бы сделать, чтобы все вышло и никакой материал не пропал, чтобы "История античной эстетики" была действительно полной и завершенной. Старик большой хитрец, но какой же милый, необыкновенный человек. Он был в кабинете, и я подозреваю, что проснулся и внимательно все наши разговоры слушал. Наконец, видимо решив, что пора и самому вмешаться, вышел потихоньку. Стали мы здороваться и впервые за все время он по-родственному подставил мне свою щеку. «Ну, — сказала Аза Алибековна, — целуйтесь!» Я поцеловала его в щечку, а он мне руку поцеловал. Вот ведь рыцарь старинных времен! Он розовенький, мягонький, большой — ведь рост-то у него велик, хотя теперь он уже несколько сутулится, — очень ясный, хотя выражение его лица зачастую с хитрецой, или юмористическое, или ироническое. Очень живое выражение! Сколько всего в человеке, мыслей, чувств, эмоций, наконец, интеллекта десять вагонов, если такое живое, быстро меняющееся выражение лица при том, что глаза закрыты, а когда открыты, то без выражения. Ведь он не видит ничего.
Георгий Карлович Вагнер меня однажды спрашивал, каков Лосев в общении. Его оказывается интересовало — прост ли он? "Очень, — ответила я, — а как же иначе может быть?" "Ну, — сказал Георгий Карлович, — Лосев мог бы вести себя и монументально, по тому сколько он наработал и по причине еще той, что такой головы нынче нет ни у кого".
Видимо, Алексей Федорович давно перешагнул все слабости человеческие, такие как гордыню, заносчивость и т. д. и так без конца. Видимо, он понимает по-настоящему, что важно и нужно. По моим впечатлениям для него работа — это всё. Он и сам говорил: "Я безумствовал с молодых лет, я работал днями и ночами, я потерял зрение и сон; и так сорок лет, даже больше". Теперь для него важно издать все наработанное. <...> для простых смертных (т. е. не для узких специалистов. — Г.Б.) Алексея Федоровича хватит с избытком, чтобы представить себе и культуру, и время, и дух времени, которое исследуется. Это оценка моя не для кого-нибудь. Мне ли Алексея Федоровича хвалить?! Это оценка его для меня самой, для памяти.
А как человек? Он очень искренний человек, очень добрый, очень мудрый, очень снисходительный. В свои 84 года он очень много, чудовищно много работает, и не утерял вкуса к работе, к людям, к событиям, одним словом — к жизни. Дай Бог ему жить и жить!
Теперь, решив с Алексеем Федоровичем все дела, стали пить чай. И чаи у них профессорские, но простые и милые. На столе все, но Алексей Федорович пьет жиденький чай с рахат-лукумом, который смеясь называет "замазкой". Правда, в прошлый чай я углядела, что он любит конфетки "Мишки", и в прошлый раз, съев одну, предерзостно потребовал и съел еще одну. Аза ему, естественно, их не очень-то дает. И права. Но это милые подробности. И как всегда — парадокс. Все заработал, все может и — ничего нельзя. Если будешь позволять себе жить "вкусненько", то много не наживешь, а, следовательно, и не наработаешь. Все в этом доме во имя науки и работы.
И вот за чаем я узнаю правду о Юркином житье, что на меня произвело впечатление ошеломляющее. Оказывается, Юрка пишет часто и, видимо, правдиво в Швейцарию одной старушке, которая является тетушкой Тони Комаровской... Кто-то принес Лосевым это письмо, и Аза Алибековна зачитала вслух все это Алексею Федоровичу. Они мне это пересказали; вернее, рассказывала Аза, а старик уточнял, у него же феноменальная способность запоминать на слух. Вот содержание этого письма. "Тонечка, у нас хотя и март, но тепло, восемнадцать градусов. Я пишу тебе перед раскрытым окном, за которым масса красивых цветов. Мы живем хорошо и т. д. Юра мне часто пишет. Он очень страдает от одиночества. Он страшно озлоблен, эта озлобленность пугает меня. Он пишет мне, что ему никто не верит и он не верит никому. Он пишет мне: пока я тихий. Приехав, он искал работу и не нашел. Он бросил эти поиски и обратился в толстовский фонд, где ему выдают пособие. Записался в две библиотеки и пишет мне, что очень много читает, и все серьезные книги. Какие жалкие письма он пишет". Вот таково содержание и в письме тетушки слово "какие" действительно подчеркнуто.
Что можно сказать? У Лосевых его очень жалеют. Алексей Федорович сказал: "Я как подумаю о нем, так у меня по телу дрожь". Аза Алибековна тоже очень жалеет его. Я спросила Алексея Федоровича об одиночестве, меня эта проблема очень интересует и трогает в последнее время. Он ответил: "Одиночество — очень тяжкий крест. Нельзя требовать от всех, чтобы люди могли этот крест снести. Когда я был одинок, а такие моменты в моей жизни были, мне было страшно тяжело".
Я все размышляю: а иночество? Надо будет продолжить со стариком при случае вентилировать, эту тему. Да, я сказала старику, что Пастернак написал в "Докторе": "Стадность — прибежище неодаренности". Вот он мне и ответил, что одиночество — крест. <...>
И еще вспомнила я один и печальный, и смешной штрих беседы у старика за чаем. Аза Алибековна расстроенно сказала: "Может быть, ему можно было бы пристроиться по духовной части, может быть в монастырь пойти?" Тут Алексей Федорович засмеялся и надо было видеть его лицо. "Теперь с монастырями дело известное, — сказал он, улыбаясь хитро-хитро. — Теперь монахи не знают — не то Богу молиться, не то манатки собирать". Тут уж мы с Азой засмеялись. Она стала говорить, что ведь там-то монастыри еще не разгоняют.
Комично пристрастие Алексея Федоровича к словам и выражениям "барахло", "манатки", "балда", "мозги отшибло". Как смешно говорит: "Гали-и-на, ты уже не девочка, ты же взрослая женщина и должна понимать (это по поводу Туровского[2]), что мужское семя это вещь живая органическая, а не неживая". Надо видеть и слышать, как старик собирается рассказать какой-нибудь безобидный и смешной анекдот, а Аза Алибековна восклицает: "Тоже мне, анекдотчик нашелся!" Два тихих профессора на отдыхе. Старик любит, когда с ним разговаривают просто и искренне. Когда мы ходили в гости всей редакцией и все молчали, то он обиделся. И сказал по окончании обеда: "Все [или всё-??] молчите! Ну, теперь приходите на мои похороны. Тогда и не надо будет разговаривать!" Посетители робеют, а ведь с ним можно общаться-то только посредством разговора. Его интересует ответ, а не благоговение собеседника».
Вот такая запись нашлась у меня в бумагах от того времени.
Жизнь была, как ей и положено быть, очень разная: и серьезная, и забавная, и печальная, и смешная. Алексей Федорович исключительно живо, остро и соответствующе реагировал на происходящее. Всегда, например, очень внимательно следил за тем, чтобы его текст не искажали. Один случай приведу без цитирования, но суть была именно такова. Саша Михайлов, редактируя том, поправил выражение, что спартанцы на таком-то острове кому-то набили морду — на что-то более изящное и нейтральное. Алексей Федорович сразу это обнаружил и гонял Сашу нещадно. Говорил, что он написал так, как написал, и требовал восстановить. Понятно, что для старика античность была живая и буквально дышала. Для Саши Михайлова, наверное, это были исторические факты на страницах книг. Этот случай получил огласку в узких редакционных кругах. Особенно все смеялись на последний аргумент Лосева. Он сказал Саше: «что же они (спартанцы), по-твоему, там делали?»
Но бывали ситуации, когда было не до улыбок. Как-то Алексею Федоровичу заказали статью «Символ» для энциклопедии. В результате кроме статьи появилась и книга «Проблема символа и реалистическое искусство». Вышла она у нас, редактировал Юра Кашкаров. В тексте были большие цитаты из «Медного всадника» А. С. Пушкина, которые Кашкаров самочинно снял. Когда пришла верстка и Алексей Федорович узнал про эти сокращения — грянул гром. Юра пришел с Арбата ужасно расстроенный. Пришлось вставлять цитаты, с середины переверстывать книжку и платить типографии — тогда ввели уже этот порядок. Алексей Федорович сказал: «Я заплачу, но цитаты вернуть!» Это было Юре Кашкарову неприятно вдвойне.
Со мной лично однажды произошел случай на уровне анекдота. Пришлось мне услышать, как Алексей Федорович сердился на меня. Дело в том, что рукописи каждого тома были примерно по полторы тысячи страниц. Когда эта гора текстов бывала готова и отправлялась в типографию, то протограф, а зачастую и копии относились обратно на Арбат, там целее будут. Когда же начинали набирать, а набирали в то время на линотипах в свинце, да не в Москве, то тут не дай Бог какая-нибудь остановка; если отложат, то надолго или, что называется, навсегда.
И вот в один прекрасный день вбегает в редакцию раздраженная дама из производственного отдела и начинает шуметь: «Что вы там понаписали в своих рукописях? Звонит наборщик Лосева из Тулы, он в бешенстве! Говорит, что на каждой странице все какое-то фэ эр гэ, да фэ эр гэ. Текст весь из древности, а при чем тут тогда Германия? Говорит, понапишут, а потом опять переливать! Говорит, бросит набор!»
Кинулась я к шкафам, а ни одного экземпляра нет. Наверное, у Кашкарова дома был экземпляр, а в редакции ничего нет. А она стоит и говорит, если сейчас не выяснишь, то набор остановим, наборщик у телефона ждет. Я совсем обалдела: какая, думаю, Германия, какая ФРГ? Последняя надежда, спросить у автора. Знаю, что Аза Алибековна в университете, но звоню. Берет трубку секретарь, рассказываю ему и прошу спросить у Алексея Федоровича. Короткая пауза и Алексей Федорович берет трубку сам. Я в панике повторяю ему этот дурацкий вопрос. Алексей Федорович тихо отвечает:
— Эф эр гэ — это сокращенное «фрагмент».
Я говорю это производственной даме, она начинает хохотать, а потом убегает. Зато я остаюсь с Алексеем Федоровичем на проводе. Он мне говорит: «Ты что же это, уважаемая? Совсем ничего не соображаешь?» Я бормочу, что ни одного текста в редакции нет, а тут еще какая-то Германия. А Лосев говорит: «Ну, уважаемая, у тебя совсем мозги отшибло!» Слово «уважаемый» было у Лосева ругательное; он говорил, что в письмах надо писать «многоуважаемый», а просто «уважаемый» — это как-то обидно.
Конечно, для других людей и ситуаций были у Алексея Федоровича и другие слова. Как-то я пришла вечером на Арбат по делам и среди прочего сообщила, что наш главный редактор Федор Дмитриевич Кондратенко опять чего-то то ли не пускает, то ли не дает. Старик говорит: «Он же мне обещал!» Потом мы стали пить чай втроем и все разговаривали с Азой Алибековной о каких-то посторонних вещах. И вдруг такой диалог.
— Федор — сволочь! — сказал в сердцах Алексей Федорович совершенно неожиданно и не к разговору.
— Что это вы, Алексей Федорович, ругаетесь? И при всех! — спросила Аза Алибековна.
— Здесь никого нет, мы одни.
— Но мы же дамы! — обиженно воскликнула Аза Алибековна.
— Извините, — мрачно сказал Алексей Федорович и весь вечер молчал. И было бы все это, конечно, смешно, когда бы не было так грустно.
Довелось мне увидеть и более тяжелую картину, которая врезалась мне в сердце, в память на всю жизнь каждой деталью, каждым словом.
Пришли мы на Арбат с Володей Походаевым объявить очередную «радостную» новость: рукопись надо сократить как минимум на десять листов, так приказало начальство, потому что якобы ни одна типография не берется переплетать такой объем. И сделать ничего нельзя.
Алексей Федорович сидел у стола напротив нас, был закутан в плед, нахохлившись, как больная птица. И молчал. Рядом с ним стояла Аза Алибековна. Тишина была какая-то нехорошая. Люстра горела очень ярко. Вдруг я увидела, что по лицу Алексея Федоровича катятся слезы. Он плакал молча и слез не вытирал. Жутко у меня стало внутри, жалость нахлынула пронзительная. Потом он сказал:
— Что же вы всё режете? Пользуйтесь, пока я жив. Вы думаете Аза вам напишет? Ничего она вам не напишет, она же филолог.
Мы молчали. Что мы могли отвечать? Вот как оно бывает. В тюрьме человек не плакал, в лагере не плакал, в войну не плакал, а тут. Видно, всякий ресурс в конце концов иссякает.
Немного успокоившись, Алексей Федорович сам стал резать свое детище и изъял целый раздел — эллинистически-римскую эстетику, которую позже Аза Алибековна издала отдельной книгой. Но все эти сокращения были не по техническим причинам. Вот еще моя старая запись от 21 апреля 1977 г.
«Мне кажется, что против Лосева интрига какая-то на уровне Комитета, Стукалина и каких-то "ученых", которых Вачек по фамилиям не назвал. "Ученые" считают, что в вышедших томах плохая редактура. Каковы? По их мнению, надо было сокращать. Всё это трудности, которые неизвестно как надо преодолеть. Ясно только одно, что "ученые" сами никогда ничего путного не напишут. И поделом им. Не интриговать надо, а работать». Фамилии этих людей так и остались для меня тайной.
После отъезда Кашкарова стало очень трудно. В моих старых записях мелькают фразы: «С Лосевым дело обстоит скверно. Лосева не издают. Лосева держат. Я бессильна». Да и действительно, что я такое, что я могу? Алексей Федорович считал «Историю античной эстетики» своим главным трудом, а мы падали в пропасть и точки опоры не было.
Но Бог помог. Опора нашлась в лице Ивана Федоровича Волкова, который еще тогда не был деканом филфака, но любил нас, был нашим другом, а — главное — был лучшим другом главного редактора нашего издательства «Искусство» Федора Дмитриевича Кондратенко. И стали мы давить на Ваню, а он на Федора, и вставили все-таки том в план, и назначили срок сдачи в производство. Выглядит как в сказке — бабка за дедку, а дедка за репку. Смешно, но так было.
И сам процесс сдачи был не совсем обычный и комичный. Иван Федорович сказал, что можно нести рукопись. В этот день мы были с Григоряном почему-то одни. Говорю ему: надо нести Лосева на подпись к главреду. Григорян покрутился, покурил и придумал: «Я не могу идти. У меня на пиджаке локоть рваный, дырка. Как я пойду?» Я: Федор все равно не увидит, наплевать ему на ваш рукав. А Вачек своё: лучше он домой съездит и пиджак сменит; на машине это быстро. Мне же шестое чувство подсказывает, что его из редакции выпускать нельзя — обманет, уедет и не вернется. А потом неизвестно что и когда. Вот и говорю: я Вам рукав зашью. Это был подвиг! Шить не умею, а тут рукав ему быстро и хорошо заштопала. Григорян удивился, похвалил, и мы с огромными папками пошли наверх.
В кабинете Федор Дмитриевич вертел рукопись, хлопал белесыми ресницами, мычал и мямлил, что объем слишком большой. Григорян жутко боялся начальства и молчал, трусливо улыбаясь. Я же нахально утверждала, что объем такой, как всегда, что нечего сидеть на рукописях, а надо их издавать. Федор принял нитроглицерин, помямлил еще, что с него снимут голову и. подписал. Я быстро собрала папки и мы удалились. «Ай да Ваня!» — ликующе думала я. Дело было сделано.
Когда теперь вспоминаешь эти события, то кажется, что все было не очень серьезно, как в дурной оперетте. Но было именно так. Великое сопровождалось какой-то ерундой. Помню, однажды обсуждали очередную неприятность, и я сказала, что надо бороться. Алексей Федорович ответил: «Я устал бороться! Не могу же я бороться целый век!». И печально замолк.
Единственной светлой личностью среди чиновников был наш цензор, Юрий Дмитриевич Криушенко. Когда «Искусство» переехало в Собиновский переулок, то он оказался в соседней с нами комнате. Шаг — и ты попадешь в его маленькую комнатку, доверху заваленную верстками и бумагами. Юрий Дмитриевич был очень толстый, круглый лицом, похожий на хомячка. Очки у него были с таким количеством диоптрий, что и глаз не видно; да еще огромнейшая лупа. Так и читал. Когда приносили ему эстетику, то даже дела минувших дней оставлял на просмотр, даже всяких Шефтсбери и Вольтеров. На разговоры о том, что Ваккенродера или Уильяма Морриса читать не стоит, говорил, что ту же есть вступительные статьи и надо смотреть. Редко, но иногда приглашал редакторов и говорил: что же вы тут накрутили, вот помечено, берите назад. А когда придешь с «Историей античной эстетики», то говорит: «А-а, Лосев!» Повозится на стуле, попыхтит и достает печать. И все. Умнейший человек был наш цензор.
Хочется еще вспомнить эпизоды из истории издания «Эллинистически-римской эстетики I — II вв. н.э.» — того самого текста, который выбросили из тома и из-за которого Алексей Федорович плакал. Аза Алибековна решила старика утешить и договорилась с директором издательства «Московский университет» Александром Константиновичем Авеличевым, своим бывшим учеником. Алексей Федорович и раньше говорил: вот, у меня всегда одни тексты, а иллюстраций никаких, хотя иногда и можно было бы иллюстрировать. А тут — директор «свой», Лосева любит, ну, мы и решили размахнуться.
Я сосватала в художники Марию Александровну Климову, в просторечии Мурочку, свою большую приятельницу, работавшую в ленинградской «Авроре», жену известного искусствоведа Ростислава Борисовича Климова. Славочка Климов трудился у нас, в «Искусстве», и в то время делал огромный подарочный том о римском искусстве в серии «Памятники мирового искусства». Роскошных иллюстраций было море. Заключили договор, и началась усиленная беготня на Арбат и обратно.
Вдруг Мурочка заявляет: название длинное, плохо будет на титуле смотреться, нельзя ли покороче. Я осторожно закинула старику удочку насчет этого названия, а он в ответ: «А какое же тебе еще название надо? Что в тексте, такое и название!» Я ретировалась. Сказала Мурочке, чтобы делала красиво такое название, какое есть.
Однажды, уходя, уже в прихожей (и что меня дернуло?), говорю Азе Алибековне: «А знаете, чья Мурочка дочь?» Она: «Чья?» Я: «Митрополита Введенского!» Аза Алибековна всплеснулась вся и вскрикнула: «О-о-ой!» Я: «Что с вами?» Она: «Да нет, ничего. Просто он такой человек был…» Мы, большинство, тогда не знали в подробностях истории вопроса, и я не ведала, сколько душ Александр Иванович Введенский погубил. Но Алексей Федорович вместе со многими на себе всё испытал. Теперь дочь Введенского оказалась в тяжелом материальном положении, а получилось, что работу ей Лосев дал. Вот такой неожиданный нюанс в этой истории был.
Директор, Саша Авеличев, был «наш», а вот редакция — почему-то жутко враждебная. Заведующая, бойкая партийная дама, при Саше, когда на совете материалы утверждали, молчала, зато без него — держись! Я однажды не выдержала и сказала Саше — разогнали бы вы их за невежество и за все остальное. Нельзя, — отвечает: только тронь — такое начнется!..
Издательство «Московский университет» тогда находилось на ул. Герцена, в бывшем особняке графа Орлова. Авеличев сидел в роскошном кабинете графа, с камином и прочими излишествами. Редакции были в нагороженных клетушках, курятники да и только. На втором этаже был зал, помнится, со стеклянным потолком в вышине, с кариатидами, которым какие-то дураки сделали красным лаком педикюр. Посреди зала столы со стульями для всех приходящих литературных бродяг, а на одной из стен окошко с многообещающей надписью «Касса». Одним словом, вокзал.
В этом зале меня и штурмовала заведующая редакцией вместе с присными, и на подкрепление пригласила главного художника. Они со мной так разговаривали, почему-то лично меня с такой ненавистью поносили и в таких выражениях, что даже молодой главный художник сначала сделал большие глаза, а потом совсем их опустил. Требовали, чтобы часть иллюстраций снять, а то в этом формате остаются пустые полосы. Больше часа орали, а на меня накатило удивительное спокойствие и я на все крики говорила — нет. С неопровержимыми аргументами, почему нельзя сокращать. Кончилось тем, что главный художник предложил не сокращать, а полос добавить. Ну, на это я согласилась.
Но и Мурочка не дремала. Стала делать шрифты заголовков через все издание и заявила, что для того, чтобы сохранить архитектонику книги, ей нужна еще полоса текста.
Алексей Федорович в это время был уже на даче. И поехала я в «Отдых». Как всегда прекрасно тут — тишина, покой, аллеи. Приехала — все обрадовались (издателям всегда все рады). Алексей Федорович на веранде, в кресле-качалке. Аза Алибековна тут же, у плиты гремит кастрюльками. Всё мирно. Объявляю: так мол и так, надо дописать полосу. Старик сидит, профиль как на античной монете, молчит. А потом вдруг: «Я что хотел — все уже сказал и написал». Я, хоть и сидела, но так и села. Говорю: оформление, шрифты требуют добавить. Аза Алибековна бросает кастрюльки, начинает громко объяснять, что можно написать то-то или вот то-то. Алексей Федорович послушал, да и говорит: «Не кричи, Аза». Посидел минуты две молча, потом спросил: «Запишешь?» Ну, конечно. Тихо продиктовал. Это памятная для меня 341 страница книги. Поразило меня его чувство меры, интуиция. Как будто мысленно книгу читал. У нас даже рукописи под рукой не было — вообще ничего, а он сразу включился, решил, что именно нужно, сделал текст за несколько минут. Так всё помнить — это феноменально!
Итак, Алексей Федорович жил на даче, а дело шло своим чередом.
Мурочка придумала (чтобы было совсем уж шикарно) сделать форзац рисованным — какие-нибудь античные фигуры или сюжеты, а на переплете ничего не писать — дать тисненую золотом римскую монету с амуром, плывущим на тритоне и трубящим в морскую раковину. Показала — красиво, полный восторг. Графику, оригиналы для типографии должен был сделать ее зять, известный художник Дима Плавинский. Он и сейчас жив-здоров, ему теперь 70 лет, живет в Нью-Йорке и работает по контракту в Нью-Йоркской картинной галерее.
Через неделю спрашиваю, готово? Диалог такого содержания. Нет. Почему? Дима запил. О, боги мои, боги! Еще через неделю. Как? Пьет. Плавинский, раньше когда пил, никогда не работал. А сейчас, в Нью-Йорке, работает и когда пьет. Капитализм что ли?
Еще через неделю. Как? Пьет. Что же это такое? Когда же кончит? И вдруг Мурочка городит такую дикую вещь: «Что ты с ума сходишь? Старик старый и скоро умрет!» Это про Лосева! Это в 1979 году! Да и не важно для меня было, какой год. Я стала орать (тем более, что Мурочка была глухая, как пень), что все вы перемрете, а старик будет (и, прости Господи, почти не ошиблась: умерла Мария Александровна вслед за Лосевым и было ей всего шестьдесят с небольшим лет). В общем, дружба в сторону. Потребовала я, чтобы все было сделано немедленно. Как она своего Диму вытрезвляла, не знаю. Монету он сделал хорошо, и оригинал был сдан. Форзац не осилил, снова провалился в эту бездну, а ждать мы не могли.
Но все наши муки окончились ничем. Загад не бывает богат. Родная полиграфия все свела к нулю. Штамп что ли плохой сделали. На обложке в тираже не было никакого тритона-дельфина, никакого Амура, а просто круглое золотое пятно неизвестного содержания, которое мы окрестили «блямбой».
Наконец, книжка вышла и я пришла к старику с сигналом. Алексей Федорович сидит в кабинете благостный, в хорошем настроении. Ну, говорит, рассказывай. Вот, говорю, супер, очень красивый, цветной снимок из римской виллы, даже кракелюры на фреске. Дальше, говорю, ваш портрет с автографом, хороший, где вы чай пьете за столом, чашку мы отрезали, хорошо получилось. Дальше титул. Читай, говорит. Читаю. Дальше оборот титула, все зачитываю. Ну, теперь читай первую страницу. Я читаю: «От автора». Что?! Где?! Какое «от автора»?! Откуда взялось. Я говорю, что это Мурочка предложила, чтобы шрифты насквозь в книге гармонировали. «Ах, шрифты?! От автора! А остальное от кого? Да ты видела у меня где-нибудь "от автора"?! Да что же такое?!» Просто бушевал старик, а мне хоть провались с этими шрифтами.
Потом, когда старик успокоился, стали читать детально до конца. Потом, конечно, мир. Тем более, что книга получилась, невзирая ни на что, кажется, хорошая.
Работал Алексей Федорович необыкновенно много и продуктивно. Мы в редакции посмеивались, что старик работает один как целый сектор Института философии. Там был план — несколько листов должен сдать за год кандидат наук, и доктор наук побольше. А сколько пишет и сдает Лосев, все мы знали.
Еще до отъезда в Штаты, пришел как-то Юра Кашкаров с Арбата и поведал, что в разговоре со стариком сказал ему: «Вам, Алексей Федорович, чтобы стать классиком осталось только умереть». Я Данилычу: совсем обалдел. А он защищаться: ведь это правда. Оно и правда, живых классиков не бывает. Особенно у нас в то время быть не могло никак — пока жив, вдруг что-нибудь не то скажет или напишет.
К вопросу о «скажет» можно добавить вот еще что. Когда мы начинали спрашивать старика что-нибудь о политике, то Аза Алибековна частенько повторяла: «Вот вы все спрашиваете, а потом будете говорить везде, да еще сошлетесь, что это Лосев сказал». В общем правильно, пуганый заяц куста боится.
Помню, как Алексей Федорович усмехался: «Ленин философ сла-а-абый! У него определение материи слабое». Или разговор, когда Черненко, Константин Устинович, стал генсеком: «Сколько ему лет? Семьдесят? Старый человек. Государством руководить — это сколько работать надо! Я бы не смог…»
Мне кажется, что из колеи Алексея Федоровича могло выбивать только одно: если издательские дела спотыкались или совсем не шли.
Однажды, когда издательские дела сильно покосились, Ольга Сергеевна Соболькова, тогдашняя домоуправительница, повезла Алексея Федоровича на защиту диссертации о проблемах стиля. Алексей Федорович был мрачнее тучи и все время молчал. Соискательница говорила, объясняла и доказывала. Когда кончила, старик вдруг угрюмо спросил: «Дайте определение — что такое стиль?» И — о ужас! — она почему-то не могла ответить ни слова. Говорили, будто соискательнице вызывали скорую, а Ольга Сергеевна старика под руку — и уехали. Такая была история из рассказов других. Поэтому не могу поручиться за достоверность на 100%, но сведения из надежных источников.
Первый раз сама я увидела Соболькову в редакции, когда она принесла сдавать рукопись лосевского тома. Приехала на такси. В лисьей шапке, губы накрашены, надменная, как Екатерина Великая. Кашкаров перед ней запрыгал, мы с любопытством наблюдали. Обмен любезностями — и удалилась. Юра раскрыл папку и охнул: «Ох, аннотацию не дали! Придется опять звонить». Сережа Александров ему: «Беги, верни даму. Пусть она напишет, чем потом канителиться». Кашкаров захохотал и говорит: «Да ведь это же домработница!» Так мы все и познакомились с Олей. <...>
Случались и недоразумения, в которых каким-то боком была виновата и я. Как-то летом, на даче у Алексея Федоровича заболела нога так сильно, что он не мог на нее даже наступить. Телефона у меня тогда на новой квартире не было, поэтому мы с Лосевыми переписывались. Вдруг в почтовом ящике — письмо от Азы Алибековны о болезни Алексея Федоровича, о том, что все разъехались по дачам и никого не найдешь. И таким одиночеством повеяло на меня от всего прочитанного.
Я моментально позвонила Александру Наумовичу Луку. Это был наш автор, ученый, занимался проблемами памяти, хороший психоневролог, замечательно лечил радикулиты и все такое, консультировал в поликлинике. Лечил и нас в редакции, отзывы о нем были очень хорошие. Я сказала, что надо немедленно ехать к Лосеву, и мы — а он бросил все свои дела — поехали в Отдых.
Приехали. Входим на дачу к Спиркину. Дача тогда была в расцвете своей летней роскошной красоты. Открываем калитку, вступаем на аллею. Подбегает к нам собачка Спиркина, маленькая Малышка. Александр Наумович весь сжался, чувствую, что он страшно испуган. Оказалось, Лук патологически боится собак вообще. Хотя я бодро объясняю, что она только лает, но не кусается, он все равно не разжался. Так прошли аллею, вступили на портал. Оставила я здесь бедного Лука, а сама вошла на террасу. Никого. Постучалась, вошла в комнату. В комнате сидел Алексей Федорович, Саша Столяров читал ему Вл. Соловьева.
Поздоровалась. Помню дословно, старик ответил мне так: «Прости, встать не могу. Боль меня настигла». Я начала говорить, что со мной приехал врач, что все будет хорошо и т. д. А тем временем на аллее появилась Аза Алибековна с бидоном молока, увидела Лука с портфелем и поинтересовалась, к кому он приехал. Лук: к Алексею Федоровичу. Аза Алибековна ему: Алексей Федорович заболел и помочь Вам не сможет. На это Лук ей, мол, того он и приехал со мной, чтобы помочь Алексею Федоровичу.
Тут всё разъяснилось, всё засуетилось. Аза Алибековна повела Лука осматривать больного. Потом Лук вышел на террасу, установил, что это воспаление запирательного нерва, невралгия, начал выписывать рецепты. Саша побежал в аптеку. Я же завела речи об остеохондрозе. Стали Лука спрашивать: да что это, да как это. Аза Алибековна говорит, что в словаре такого слова нет. Лук нас просвещать: это не «хандроз» как я думала, а «хондроз» — греческое слово, которое можно понять как «хрящ». Аза Алибековна принесла греческий словарь, слово нашлось. Смех, живой разговор о несуразностях. Вдруг Лук произносит что- то по латыни. Поглощенная жизненными трудностями и ногой Алексея Федоровича, Аза Алибековна, как с разбегу, остановилась в разговоре и молчит. Я — тем более. Тогда Александр Наумович победно перевел нам сказанное на русский. Что — уж теперь не помню. Аза Алибековна засмеялась, мол — да, да! Врач получил плату за визит, я обязалась в Москве найти новое тогда лекарство под названием «бруффен», светская беседа закруглилась и мы удалились.
Когда приехали, Лук все ахал, какая у Спиркина дача. А теперь, когда вышли за забор, он мне — какие замечательные и приятные люди Лосевы. Я соглашаюсь. Потом спрашивает, кто Аза Алибековна? Отвечаю: профессор, заведующая кафедрой классической филологии в МГУ. Тут Александр Наумович чуть не упал, смутился жутко: «Какой ужас! А я-то дурак с латынью полез!» Я смеюсь: ерунда, лишь бы нога зажила у Алексея Федоровича. А в электричке Лук все твердил: «Какой старик! Я раньше не понимал, чего вы в редакции так про него говорите, а теперь увидел его, пообщался немножко и понял! Необыкновенный старик, я таких людей не встречал!»
Вскоре Лосевы переехали с дачи в Москву. Невралгия проходила, но как-то неохотно. К тому же от этого лекарства Алексей Федорович стал хуже слышать. Просто кошмар — не видеть, да еще плохо слышать. Я ему: «Алексей Федорович, может тогда не принимать этот бруффен?» А он: «Я так не привык. Начал курс — надо кончить. Я систематик». Потом Алексей Федорович меня как-то спрашивает: «Что же ваш Лук меня бросил? Все было овеяно такой дружбой — и пропал. Даже не позвонит».
Звоню Луку, а он: «Не могу ни идти, ни звонить. Неудобно. Они будут деньги давать, а я взять не могу». Надо бы мне было вмешаться в ситуацию, да я что-то закрутилась. И долечивал Алексея Федоровича уже другой врач, специалист по иглотерапии. Довольно молодой, пришел и заявил, что надо колоть в шею. Алексей Федорович ему: «Что-то я не верю. Колоть будете в шею, а нога выздоровеет?» Врач отвечает: «А ваша вера и не нужна». Но после этого курса Алексей Федорович, действительно, выздоровел и стал ходить.
В первой части вспоминались все какие-то дела издательские. Но никак не избежать самого печального для меня — вспоминать последний период жизни Алексея Федоровича.
О, душа моя, что же ты плачешь?! Много времени прошло, а все так живо. На Афоне монахи говорят: жил хорошо, посмотрим, как умирать будет. Алексей Федорович был для меня величина постоянная, и я малодушно, но категорично отсекала мысль, что он может уйти от нас. Когда посещали такие мысли, то сразу думалось, что вот мы живем кое-как, а Лосев живет правильно, работает много, но ритмично; вот ему и восемьдесят, и восемьдесят пять, и девяносто, и ничего. И, конечно, никогда я и предположить не могла, что вот Бог приведет мне быть свидетелем, как Алексей Федорович будет болеть и умирать.
Алексей Федорович стал болеть в начале перестройки. И как раз в это время ушла от них по причине гипертонии Софья Владимировна Бобринская, которая много лет помогала им по хозяйству. Аза Алибековна стала искать ей замену, тем более, Алексей Федорович нуждался в особом внимании. Спросила она и меня, нет ли кого на примете, хорошего какого-нибудь человека? Думала я, думала: вроде и подходящего никого нет, да и за кого можно поручиться? Позвонила Азе Алибековне и говорю, что нет никого; если только я сама могу помочь, коли справлюсь. Аза Алибековна обрадовалась, что проблема решается, я пришла, сели втроем. Все вопросы в доме всегда решались с согласия Алексея Федоровича. Его слово последнее. Аза Алибековна стала говорить, что вот Галина Даниловна будет вместо Софьи Владимировны, и как будет хорошо. Вдруг старик тихо так говорит: «Нет». Я изумилась, а Аза Алибековна красноречиво забегала и закричала, что будет хорошо, что я человек свой и т. п. Алексей Федорович опять говорит: «Нет». Я спрашиваю: «Алексей Федорович, почему?» А он отвечает: «Интеллигентный человек должен делать интеллигентную работу». Аза Алибековна заявила, что положение безвыходное, и тогда он сказал: «Я против. Делайте как хотите». С того дня стала я заниматься хозяйством, а старик перестал говорить мне «ты» и до самой смерти говорил мне только «вы», к моему величайшему огорчению. Он был сто раз прав. Он был тысячу раз прав. Но положение было и вправду безвыходное, в то время особенно был нужен кто-то свой. Однажды он мне что-то сказал, а я осмелилась и говорю: «Что это вы, Алексей Федорович, со мной на "вы" разговариваете?» И ни-че-го. Молчит. Промолчать он умел как-то особенно, мастерски.
Раньше мое общение с Лосевым было или деловым, рабочим, или гостевым иногда, то есть чай и соответственно беседа. Такое общение можно назвать все-таки внешним. А теперь, когда попала внутрь дома и домашней жизни, общение стало частым и иным.
На дворе уже начала шуметь перестройка, у всех открылся дар речи. Один выступает так, другой печатает сяк. Ежедневный разноголосый крик. Тогда, после больницы Алексею Федоровичу уже не было хорошо, но еще не было так худо, как в последние месяцы жизни. Вот иногда, если момент подходящий, и рассказываю, кто что крикнул. Конечно, мне интересно, что старик скажет. По-моему, это самое интересное. Смута, и хочется знать, что человек мудрый скажет. Сохранилось у меня несколько записей того времени — это 1987 год, ноябрь, декабрь.
Спрашиваю, что могут означать текущие события. Отвечает весьма пессимистически: «Все это очень неопределенно и неизвестно надолго ли. Вот в чем весь вопрос. Что можно сказать? Завтра всё и кончится».
70 лет Советской власти. Торжественное собрание и речь Горбачева. Рассказываю Алексею Федоровичу на другой день, что генсек говорил. Он слушает и вдруг спрашивает: «А Бухарина реабилитировали?»
Реабилитации пошли потом, после смерти Лосева.
Не один раз заходит разговор о Сталине и компартии. Вот несколько записей.
«Старик говорит, что до тех пор ничему нельзя верить, пока Сталин не будет по-настоящему осужден, то есть выведен из партии.
Спрашиваю: И отовсюду?
Ответ: И отовсюду.
Я: Что же, значит могилу надо расковырять?
Мгновенная пауза и насмешливая улыбка.
Ответ: А как же!»
Это все дословно приводится здесь. Другая запись:
«До тех пор, пока не будет Сталин исключен из партии и не опубликуют высказывание Н. А. Бердяева: "Существует два вида сатанизма — коммунизм и фашизм", верить всему этому нельзя».
«Спрашиваю, а что же все-таки окончательно конкретно должно быть сделано и получаю ответ: Сталин должен быть исключен из партии посмертно.
Я: Что это вы, Алексей Федорович, так волнуетесь о чистоте рядов партии?
А. Ф.: Сталин должен быть исключен, а партия переименована в фашистскую».
Еще запись. «В конце 1987 года были сомнения по поводу происходящего: надолго ли? В январе разоблачительные материалы в газетах и те же разговоры.
Старик: Что бы ни происходило, а партии все на пользу. Она все крепнет. Пред войной — какой был террор, даже военачальников всех побили. А войну все-таки выиграли. Какой ценой? Это другое дело. Но выиграли. И партия снова укрепилась. Она никогда не допустит, чтобы что-то делалось, что ей во вред. У нее очень развит инстинкт самосохранения. Если будет что-либо хоть чуть угрожающее, то она сразу примет меры к ликвидации таких явлений и факторов. Это несомненно. Также и с перестройкой, и со всем остальным вообще».
Прошло больше двух десятков лет с того разговора и теперь ясно, что по сути, по большому счету Алексей Федорович был абсолютно прав. Партия мимикрирует на все лады, а самые бойкие члены ее перестроились тогда мгновенно, приватизировали народное достояние и теперь мы имеем то, что имеем, а вернее сказать, не имеем ничего. То, что прежде было тайным и замаскированным, стало наглым и явным.
2 Туровский Марк Борисович, бывший студент А. Ф. Лосева, впоследствии преподавал философию в мединституте, где посеял среди студентов большую смуту, утверждая, что из неживого может возникнуть живое; студенты даже пытались в лаборатории что-то сотворить. После всего Туровского уволили. Он краткое время работал в редакции эстетики.

Вы можете скачать Пятнадцатый выпуск Бюллетеня /ЗДЕСЬ/
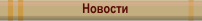
- Культура – вещь бескорыстная. Беседа с Еленой ТАХО-ГОДИ.
- 02 - 11 сентября 2016 года - Всероссийский фестиваль энергосбережения "ВместеЯрче"
- 6 сентября 2016г. Ярмарка вакансий для молодёжи "Первый шаг к успеху"
- 12-24 сентября 2016г. Международная научная конференция XV «Лосевские чтения»
- 21- 25 сентября 2016 г. Российский форум коллекционеров
- 8 – 9 декабря 2016 г. Международная научная конференция «Д.С.Мережковский: писатель – критик – мыслитель. К 75-летию со дня смерти»
- Программа "Читаем Аристотеля" в Библиотеке "Дом А.Ф. Лосева".
- Детская студия «Карандаш и кисточка»
- Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы» Программы
- Семинар «Русская философия» Программы
- Архив новостей
 '
'
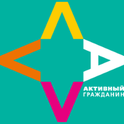
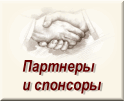


-
В августе 2016 года исполняется:
- 14.08 — 150 лет со дня рождения Д.С. Мережковского
- 28.08 — 105 лет со дня кончины Д.Н. Цертелева
- 28.08 — 125 лет со дня рождения В.Н. Ильина
подробнее об этих и других событиях...
2016 - Год Аристотеля...
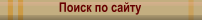
|