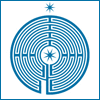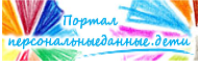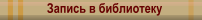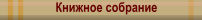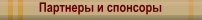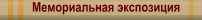Бюллетень. Номер четырнадцатый. Наши публикации
Исупов К.Г. (Санкт-Петербург). Метафизический Город
Достоевский подарил Серебряному веку метафизику Города. Наследники не без азарта развернули усвоенные контексты «Города и Мира», расширяя концептуальное поле урбанистики в зоне актуальной апокалиптики и в свете последнего исторического дня.
Город в прозе Достоевского предстает как пространство нового типа деятельности, а именно: труд жизни. Эта сравнительно новая для отечественной урбанистики идеологема проясняется на антиномично выстроенных категориях ‘служба’ / ‘работа’, ‘суета’ / ‘дело’, ‘сплетня (скандал)’ / ‘творчество’. Достоевский артикулирует эти оппозиции не без влияния Гоголя (вспомним в «Риме» – «страшное царство слов вместо дел»): «Мы собираемся на лень и на отдых, как на какое-то тугое и строгое дело» (18, 30); здесь же прозвучал призыв: «Покажите нам дело, а главное, заинтересуйте нас к этому делу» (18, 31); ср.: «Это только в Москве отдыхают перед делом. Петербург отдыхает после дела» (18, 111); «Мы все как будто работники, которые несут на себе какую-то ношу, добровольно взваленную на плечи, и рады-рады, что европейски и с надлежащим приличием донесут ее хоть до летнего сезона. Каких только занятий не задаем мы себе так, из подражания!» (18, 111–112) «Мы – народ деловой; нам иногда в театр и некогда» (18, 112). В показаниях следственной комиссии по делу Петрашевского встречаем: «Самый высочайший комизм для меня – это ненужная никому деятельность» (18, 134).
Развивая старую тему сравнения столиц, петербургология отметила особый тип городского бездельника и дамского жуира-альфонса: «коломенский джентльмен»; эссе с названием «прекрасный молодой человек» создали И. Панаев (1840), Н. Баженов (1848), Г. Успенский (1867). Позже А.П. Мертваго напишет о любви москвичей просить «на чаёк» («Петербург и Москва», 1908).
В труде городской жизни Петербург Достоевского проявляет себя как среда активного сопротивления. Здесь вязкая материя «обстоятельств» и «превратностей» дает знать о себе как агрессивная и зловредная, иронично «умышляющая» против человека. Достоинство его поверяется на меру умения преодолеть вязкость препятствий и запинок, на способность разредить густую консистенцию досадных ситуаций: «Мы как будто тянем наш жизненный гуж через силу» (18, 30). Человек в реке городской жизни – все время против течения. Спокойный ритм городского существования может быть гарантирован ему аккуратным следованием уставу сословно-социальной роли. «Не тот Долгорукий» обречен на маргинальную жизнь. Как художник-метафизик, Достоевский был заинтересован, с одной стороны, в изучении весьма эмпирических и конкретных реальностей, конституирующих сознание человека напрямую и без всяких метафизических хитростей, а с другой – «механизмами» трансляции ирреальных онтологий в горизонт внутреннего самоощущения героя.
Есть такие среды, сферы обитания, ландшафты и прочие «пространственные» структуры, насыщенные энергией скульптурации сознающей материи, в которых человек – всего лишь ментальная глина в руках невидимого Ваятеля. Этот Ваятель – не сам Город, а злобный и властный Хозяин Города, ни разу и никем не названный по имени, но всей совокупностью исходящих от него угроз и применяемых им репертуаром моральных и физических мучений ясно, что это – Хозяин дольнего Ада повседневности, хитроумный конструктор каменных лабиринтов дольнего жития, изобретатель интриг, инициатор мнимых миров и провокатор всяческой житейской путаницы, режиссер «дьяволова водевиля», гений лести и источник лжи, а проще говоря – Русский Черт, высокие титулы которого (Мировое Зло, Лукавый, Антихрист, Люцифер) убедительно дискредитированы образом пошловатого джентльмена в «Братьях Карамазовых».
«Петербург – Город Дьявола» – беспроигрышная карта массовой беллетристики нач. ХХ в.: Е. Иванов («Всадник. Нечто о городе Петербурге», 1907), Д. Мережковский «“Быть Петербургу пусту”», 1908), Д. Аркин («Град Обреченный», 1917), Н. Устрялов («Судьба Петербурга», 1918), И. Потапенко («Проклятый город», 1918), Д. Заславский («Четыре всадника <Петербургские силуэты>», 1918).
Но не будем думать, что столь простенькое объяснение затрудненной или неотменяемой в обильности несчастий городской жизни («черт попутал») могла служить писателю сколько-нибудь серьезной мотивировкой. Не будь у человека органа восприятия темных внушений, никакие уловки демонской рати не имели бы успеха. Человеческое существо, искони пораженное первородным грехом, готово к приятию инспираций Мирового Зла в любых порциях. Далеко не первым Достоевский изобразил демонизм Города; его приоритет – в другой области: в поэтике «усиленного сознавания» (5, 102) героем демонических ловушек и попыток сопротивления нарочитой (т.е. вмененной всей онтологии его городской жизни) некоей «умышленности». Феноменология злой жизни у Достоевского предъявляет нам не образ безнадежного, испорченного мира, в который человек втянут бесповоротно и с неизбежно трагическим результатом, а нечто иное.
Это «иное» – в образах метафизической дружбы Мирового Зла и «изначально злого в человеческой природе» (говоря названием Кантова трактата 1792 года).
Осмысление и художественный анализ психологии горожанина и фактурной природы Города в ее метафизических измерениях проходит у Достоевского три этапа. Ранний Достоевский предъявляет феноменологию восприятия городской реальности глазами «мечтателя», тип которого подробно изучается в фельетонах «Петербургской летописи» (1847). Поэтика этих текстов строится на эскалации гоголевских экфразисов. В дальнейшем точка зрения на Город становится множественной и объемной – с преобладанием интроспективного видения. Здесь феноменология переходит в эстетическую герменевтику. Наконец, наиболее впечатляющие результаты достигнуты на путях суммарной авторской метафизики петербургского пространства, которая научила мировую литературу конца ХIХ – начала ХХ в. приемам художественной урбанистики. Напомним известные читателю эпизоды.
В концовке «Слабого сердца» (1848) Аркадий «…остановился на минуту и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром кровавой зари, догоравшей в мгляном небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от растаявшего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца, осыпанная бесконечными мириадами искр мглистого инея. <…> Сжатый воздух дрожал о малейшего звука, и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старым, новый город складывался в воздухе… Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами – отрадой сильных мира сего, в этот сумеречный час походит на фантастическую волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу» (2, 48).
Обратим внимание на три момента. Город подан 1) в меркнущем свете последнего вечера мира (предчувствие будущих образов апокалипсиса Петербурга); 2) в поэтике сна и грезы (предварение позднейших образов растворения / исчезновения); 3) с усилением гоголевско-гофмановского антуража описания.
Но самое для нас ценное в этом фрагменте – фраза, в которой «новый город складывался в воздухе». Есть основания предполагать, вслед за В.Н. Топоровым (1971) и Г.С. Померанцем (1979)1, что в тему «Достоевский и Даниил Андреев» должен быть внесен еще один историософский акцент: это образ «инфра-Петербурга», впервые мелькнувший в финале «Слабого сердца». В «Розе Мира» над эмпирическим Городом стоит его метафизический прообраз – Медный Всадник (как над Москвой – Белый Кремль, а над Дели – Тадж Махал; см. выше – о всадниках-памятниках Города).
Обратим внимание: в продолжении приведенной выше цитаты мы, кажется, впервые сталкиваемся с устойчивым фразеологизмом ‘новое, незнакомое доселе ощущение’; оно знаменует у Достоевского то состояние души его героя, которое можно определить как озарение.
«Он вздрогнул, и сердце его как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива какого-то могучего, но доселе не знакомого ему ощущения. <…> Он побледнел и как будто прозрел во что-то новое в эту минуту» (2, 48). Сцена эта, целиком повторенная в «Петербургских сновидениях» (1861) с заменой героя на авторское «я», имеет уточнение: «Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмысленное; как будто прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, мне незнакомый, известный по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что с этой именно минуты началось мое существование…» (19, 69). Предварительное делегирование герою личного опыта интуиции, последующие присвоение его автором; утверждение этой общей для героя и автора биографической точки в качестве кардинального момента в истории самосознания и самоопределения – таков серпантин совместного пути к овладению умениями непосредственного сознавания (мышления), т.е. опять же интуиции. Причем если для героя «Слабого сердца», Аркадия, это «новое ощущение» разрешается в тоске и хандре (2, 48), то для автора «Петербургских сновидений» это же состояние пережито катартически.
Сочетание эмоции неясной тревоги с состоянием «гибельного восторга», каким дарит горожанина пространство Невской Столицы, В. Гиппиус напрямую связывает с Достоевским: «В этой встревоженности – уже есть доля исступления Достоевского <…>. И больше всего – Достоевского, – которого, кажется, и не было бы, если бы Московская Русь не стала Петербургской Россией. <…> Остался бы “Дневник писателя” с царьградскими буффонадами, и не было бы глубокомысленного бреда Раскольникова, Мышкина, Ставрогина, Долгорукова»2.
Амбивалентное стяжение эмотивно разнонаправленных итогов «нового ощущения» дано в пневматологии Раскольникова. Спрятавший награбленное под камень герой захвачен новым чувством: «одно новое, непреодолимое ощущение овладевало им все более и более почти с каждой минутой: это было какое-то бесконечное, почти физическое отвращение ко всему встречавшемуся и окружающему, упорное, злобное, ненавистное» (6, 87); из квартиры Мармеладовых Раскольников выходит «полный одного, нового, необъятного ощущения» (6, 146), какое переживает получивший прощение приговоренный к смертной казни.
В «Подростке» Город, овнешненный в ландшафте, уже спокойно принят в естественности своих очертаний и объемов. На этом фоне резко повышается роль усиленной рефлексии над мнимостью всей этой обыкновенности и естественности; она мгновенно, «в такое петербургское утро, гнилое, сырое и туманное», переводит каменную физику Петербурга в метафизику Исчезающего Града: «Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: “А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе весь этот гнилой, склизкий город, подымется с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне? <…> Может быть, все это чей-нибудь сон, и ни одного человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто-нибудь вдруг проснется, кому все это грезится, и все вдруг исчезнет”» (13, 113). Этот знаменитый фрагмент может послужить эпиграфом ко всему «петербургскому тексту» русской классики.
В «Маленьких картинках» «Дневника писателя» за 1873 г. (гл. 13) в описании летнего пыльного Петербурга, писатель вспоминает другой Невский – объятый зимним туманом, когда проспект «переходить особенно интересно» в «адский туман: слышны лишь топот и крики, и видно кругом лишь на сажень. И вот вдруг внезапно раздаются из тумана быстрые, частые, сильно приближающиеся твердые звуки, страшные и зловещие в эту минуту, очень похожие на то, как если бы шесть или семь человек сечками рубили в чане капусту. <…> Из тумана на расстоянии лишь одного шагу на вас вдруг вырезывается серая морда жарко дышащего рысака, бешено несущегося со скоростью железнодорожного курьерского поезда – пена на удилах, дуга на отлете, вожжи натянуты, а красивые сильные ноги с каждым взмахом быстро, ровно и твердо отмеривают по сажени. Один миг, отчаянный крик кучера, и – все мелькнуло и пролетело из тумана в туман, и топот, и рубка, и крики, все исчезло опять, как видение. Подлинно петербургское видение!» (21, 105–106).
Городской туман, камуфлирующий объемную стереометрию Города, скрадывающий углы и погружающий обывателя в мир зыбких абрисов, теней и силуэтов, сам по себе оказывается полуреальной «материей», которая порождает химеры плывущего и тающего в струйных извивах бытия. Разорванные клочки реальности пролетают мимо глаз «из тумана в туман», оставляя в памяти смутные образы чего-то без лица и названья.
Переходы от резко очерченной графики углов, порогов и граничных пространственных топосов (лестница, порог, площадь и проч.) к поэтике импрессионистических «пятен» и миражей, лишь намеком декорирующих бытовое обстояние и сценографию действия, почти незаметны, как почти неуловимы переходы от «текста» Города к текстам его описания (т.е. от феноменологии к эстетической герменевтике).
Пространство обитаемого Града кубистично: оно составлено из острых углов («всего только угол» кухни, занимаемый Девушкиным, мгновенно стал отмеченным; ср. «Петербургские углы» Н.А. Некрасова (1845)) и подвалов (тот же угол, но острием вниз). От топонима «Пять углов» до «Переписки из двух углов» (1921) живет в «петербургском тексте» геометрия жестко расчисленного Города. От эмпирической горизонтали угловой жизни до метафизики вертикального «подполья» – таков путь героя-интроверта Достоевского. Автор «самого петербургского» текста ХХ в. – романа «Петербург» (1913–1914) А. Белый описал детское восприятие замкнутого пространства в терминах кубистической поэтики: герой «Котика Летаева» (1915–1916) думает плоскостями и объемами, углами и комнатами, переходами, порогами и лабиринтами3.
Угловая топография очерчивает мир тупиков, он лишен перспективы – не только прямой, но и обратной, поскольку он плоскостен и одномерен. Много раз обшаренное глазами одинокого углового человека, исхоженное его беспокойными ногами, пространство углов отпечетлевается в сознании в стереотипах без-выходности, без-ысходности, закрытости и замкнутости. Топография тупика, фундирующая внутреннее самочувствие и сужающая горизонт мировидения до ничтожных деталей частной повседневности, инициирует привыкание к угловому образу мысли. Итогом таковой привычки становится как лимитизация зрения и внимания в сфере пространственных ориентаций, так и сужение временных параметров до объема точки. В состояниях такого рода естественная каузальность событийного мира в глазах героя деформируется: рвутся звенья причинно-следственных цепей, они превращаются в дискретные элементы, и единая ткань бытия распадается на отдельные нити. Мировая событийная ткань обнажает свою изнанку, не имеющую привычного рисунка, – и так физика обычного мира на глазах истончается, дряхлеет и распадается в клочья тумана и в бессвязную грезу. В отзыве Бердяева («Астральный роман», 1917) на роман-мистерию Белого кубистическая поэтика разрушенного мира получила трезвую оценку.
Мышление, зараженное «трихинами» распада, не в силах собрать мир даже в одномерную композицию, оно целиком отдается мировому Хаосу и само, усилием сознавания и напряжением рефлексии, продуцирует искривленную онтологию. Патологию бытия, порожденную «усиленным сознаванием», Достоевский и назвал болезнью. Устами героя «Записок из подполья» (1864) болезнь эта акцентирована и даже мотивирована условиями петербургского топоса; это специфический ущерб сознания – диагноз влияния ментального климата Невской Столицы как Умышленного Града: «Слишком сознавать – это болезнь, настоящая, полная болезнь. Для человеческого обихода слишком было бы достаточно обыкновенного человеческого сознания, то есть в половину, в четверть меньше той порции, которая достается на долю развитого человека нашего несчастного девятнадцатого столетия и, сверх того, имеющего несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре. (Города бывают умышленные и неумышленные)» (5, 101).
Речь идет не просто о гнозисе, на себя замкнутом, но о претензии мыслительных агрегатов на приоритет онтологического зодчества. Достоевский 9.09.1865 записал: «Чем менее сознает человек, тем он полнее живет и чувствует жизнь. <…> Сознание убивает жизнь. <…>» (20, 196).
Энтропийное сознание есть дитя Ничто, оно непредсказуемо и агрессивно. Интенция разрушения превозмогает в нем возможности гармонизации бытия. Гносеологическая самозаконность вырождается в бунт против здравого смысла и эвклидовой геометрии, а в смысле нравственном нудит к преступному нормотворчеству. Нет ничего опаснее идеи, развернувшей свою активность за пределами категорического императива и вдали от Другого. Овладевая людьми углового уединения и завешенного туманом горизонта, она торит путь к человекобожескому энтузиазму и к торжеству на абсурде построенных реальностей.
Чтобы эти реальности могли претендовать на подлинность, им нужна презумпция подлинности. И вот тут-то срабатывает механизм дьявольского мимесиса: мимикрия, ибо ничего, кроме подделок, Обезьяна Бога придумать не в состоянии.
Человек Достоевского живет внутри большой Вещи, именуемой Петербургом. Эта Вещь, сработанная мозговым усилием Великого Реформатора, не имеет внутреннего лика, это Вещь без эйдоса, т.е. без одушетворяющего всяческую предметность принципа. Внутренней формой Города стал голый расчет и чертеж, а проще – Число. На эту числовую конструкцию, как сухая кожа на голый скелет, чехлом натянута каменная плоть Города. Всей своей вещно-предметной фактурой Петербург знаменует (означивает себя, дважды овнешняясь в знаке) инженерный результат грандиозного утопического проекта. Градостроитель мыслит макетами, подобиями и моделями. Так и вырос на брегах Невы не Город для людей, а макет Города – масштабная декорация мистериального действа (по реплике А. Чеботаревской: «Гениальная декорация»). В этом сценически-условном топосе безусловно только одно: страдания персонажей сцены, которые не ведают, что они – всего лишь марионетки лицедействующей онтологии.
Эти аспекты мистериального Града развиты в текстах С. Ивановича («Два города», 1918), И. Лукаша («Невский проспект», 1918), Н. Анциферова («Душа Петербурга. Genius Loci Петербурга», 1922), В. Вейдле («Петербургские пророчества», 1939).
Внешность Города предлежала контрастным оценкам. Защищая Столицу от критики де Кюстина, в «Петербургской летописи» автор говорит: «О ней, между прочим, сказано было, что нет ничего бесхарактернее петербургской архитектуры; что в ней нет ничего особенно поражающего, ничего национального и что весь город – одна смешная карикатура некоторых европейских столиц...» (18, 24). Контрдовод писателя таков: «Здесь, что ни шаг, то видится, слышится и чувствуется современный момент и идея настоящей минуты. Пожалуй: в некотором отношении здесь все хаос, все смесь; многое может быть пищею карикатуры; но зато все жизнь и движение. Даже вся эта разнохарактерность ее свидетельствует о единстве мысли и единстве движения» (18, 26).
Спустя почти сорок лет в «Дневнике писателя» за 1873 г. Достоевский не без раздражения сказал совсем иное. Петербург «выражает всю его бесхарактерность и безличность за все время существования. <…> В архитектурном отношении он отражение всех архитектур в мире, всех периодов и мод; все постепенно заимствовано и все по-своему перековеркано. В этих зданиях, как по книге, вы заметите все наплывы всех идей, правильно или внезапно налетавших к нам из Европы и постепенно нас одолевавших» (21, 107).
Градостроительная эклектика Города работает теперь на усиление поэтики мнимости и фантасмагоричности. Это Мнимый Град, люди в нем – мнимые, они заняты мнимыми делами, и сам он – всего лишь чей-то сон. Ноосфера Петербурга – греза Великого Сновидца, Князя мира сего.

Вы можете скачать Четырнадцатый выпуск Бюллетеня /ЗДЕСЬ/
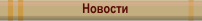
- Культура – вещь бескорыстная. Беседа с Еленой ТАХО-ГОДИ.
- 02 - 11 сентября 2016 года - Всероссийский фестиваль энергосбережения "ВместеЯрче"
- 6 сентября 2016г. Ярмарка вакансий для молодёжи "Первый шаг к успеху"
- 12-24 сентября 2016г. Международная научная конференция XV «Лосевские чтения»
- 21- 25 сентября 2016 г. Российский форум коллекционеров
- 8 – 9 декабря 2016 г. Международная научная конференция «Д.С.Мережковский: писатель – критик – мыслитель. К 75-летию со дня смерти»
- Программа "Читаем Аристотеля" в Библиотеке "Дом А.Ф. Лосева".
- Детская студия «Карандаш и кисточка»
- Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы» Программы
- Семинар «Русская философия» Программы
- Архив новостей
 '
'
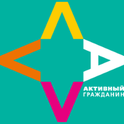
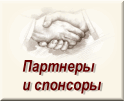


-
В августе 2016 года исполняется:
- 14.08 — 150 лет со дня рождения Д.С. Мережковского
- 28.08 — 105 лет со дня кончины Д.Н. Цертелева
- 28.08 — 125 лет со дня рождения В.Н. Ильина
подробнее об этих и других событиях...
2016 - Год Аристотеля...
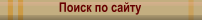
|