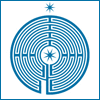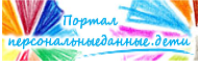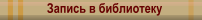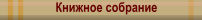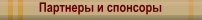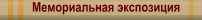Бюллетень. Номер четырнадцатый. Наши публикации
Доброхотов А.Л. Демонология Вяч. Иванова в книге «Достоевский»
Вяч. Иванов принадлежал к мыслителям, которые стремились в эпоху кризиса новоевропейского гуманизма вернуться к многовековому духовному опыту. Однако простодушный реверс для великого мыслителя был бы и невозможен, и не нужен: задача была в том, чтобы найти своего рода «средний термин», соединяющий традицию и современность. Для Иванова таким соединяющим звеном стало творчество Достоевского: его итоговое толкование он дает в своей книге о Достоевском1, замысел которой сложился к 1925 г. У нее была сложная судьба. Основательно переработав свои ранние (1911 и 1917 годы) работы о Достоевском, Иванов дополняет их новым исследованием – «Mythologumena» – и отдает русский текст (утраченный в дальнейшем) немецкому переводчику. После долгого и трудного взаимодействия автора и переводчика в конце концов книга вышла в Германии в 1932 г. и через несколько месяцев была изъята из магазинов по причине прихода к власти очередного воплощения ивановской демонологии – скорее Аримана, чем Люцифера. Для понимания философии зла, построенной в «Достоевском», важно учесть ее композицию и общую концепцию. Книга составлена из трех взаимообъясняющих и взаимозависимых частей: «Tragodumena» (Достоевский как трагик), «Mythologumena» (…как мифотворец), «Theologumena» (…как религиозный учитель). Жанровая формула, которую выводит для Достоевского автор, – «трагедия в эпическом одеянии» – играет в его концепции важную роль, поскольку проясняет характер мировоззрения писателя. Роман – это главный жанр Нового времени, его эпическая самоинтерпретация. Но у Достоевского внутренней формой романа оказывается трагедия в ее античном смысле. Поскольку, утверждает Иванов, трагедия есть взаимоотношение между реальными и свободными сущностями, мировоззрение Достоевского, выявленное средствами этого жанра, определяется как «онтологический реализм, исходящий из мистического проникновения в чужое я»2, понимаемое как метафизическая реальность. События, происходящие в мирах этой реальности, можно описать только мифами3, которые латентно содержатся в романах Достоевского и «реконструируются» (или, скорее, примысливаются) Ивановым. Теологическую интерпретацию таких мифов Иванов и дает в интересующей нас третьей части книги: «Умозрения Достоевского о трагедии, разыгрывающейся в метафизической сфере между Богом и человеком, слагаются в диалектическую систему. <…> Основана эта система, соответственно трагическому началу, на Августиновом противоположении любви к Богу и любви к самому себе, вплоть до ненависти к Богу. Философия силы зла, исходящая из анализа символических прообразов – «Люцифер», «Ариман» и «Легион» (зло в области общественной) – находит, в заключительной главе, свой коррелят в изложении религиозного идеала агиократии»4. Рискну дать заведомо субъективную оценку: идеал агиократии, восходящий к теократической утопии Соловьева, изображен Ивановым невнятно и неубедительно. «Философия силы зла», напротив, сложилась в мифологему, впечатляющую своей глубиной.
Смысловое ядро мифа – двоица злых сил, одновременно являющихся союзом и оппозицией. Один из демонов – Люцифер – получил имя от загадочного библейского обозначения сатаны как светоносной утренней звезды, Денницы. Другой наречен именем персонажа иранской мифологии, злого духа Аримана (Ахримана). «Люцифер и Ариман –прообраз отъединения и прообраз растления, – дух светлой (Лк. XI, 35)5и дух зияющей тьмы, – вот два богоборствующие в мире начала, или, скорее, два разных лица единой силы, действующей в «сынах противления», – ей же и имя одно: Сатана. Но так как истинная ипостасность есть свойство бытия истинного, зло же, в своем онтологическом небытии, истинно сущее бытие отрицает и зараз ему подражает (иначе не было бы у него иллюзорного позитивного содержания, без которого его существование было бы просто невозможным), то эти два призрака одной сущности, которая к истинному бытию не причастна, являют себя в разделении и взаимоотрицании; а самобытно определиться порознь не могут и принуждены искать своей сущности и с ужасом находить ее – каждый в своем противоположном, повторяя в себе бездну другого, как два наведенных одно на другое пустых зеркала»6. Люцифер – это сила, отрывающая человека от Бога и замыкающая его в себе. Обещая людям: «Вы будете, как боги», он выполняет свое обещание: единый Адам дробится на множество квази-божественных личных воль, но эта мнимая божественность оборачивается одиночным заключением в собственном Я. И здесь в игру вступает Ариман – разлагающая сила. Если Люцифер побуждает к ложному самоутверждению, то Ариман провоцирует самоотрицание опустошенного Я. (Примерами действия этих сил Иванов избирает люциферического Раскольникова и ариманического Свидригайлова; аналогична пара «Ставрогин – Верховенский».).
Описывая демонические трансмутации Я, Иванов воспроизводит построения своей мелопеи «Человек», сюжетным стержнем которой является дар, полученный Денницей (Люцифером) как «наследником престола» от Бога-отца. Это – перстень с алмазом, в котором, как перекрестье двух лучей, начертаны имя «Аз» и глагол «Есмь». Вначале Денница принимает дар, но истолковывает его как свою собственность, которая дает ему право на самоутверждение. Затем Человек в разных обличьях переживает опыт самоотречения в любви и, в этом смысле, – отказа от дара бытия, растворения в Другом. Но обе версии ответа на священный дар – ущербны. Истиной оказывается утверждение себя и принесение себя в дар – через восстановленную любовью связь – Тому, от кого было получено бытие. Формулировка из текста «Достоевского» дает простое разъяснение смысла отказа от Я как способа его обретения: «Человек, чтобы оправдаться в этом испытании, должен сам найти свое другое, как точку опоры, — должен действием любви и той веры, которая уже заключается в любви и ее обусловливает, обресть свое ты еси»7.
В «Theologumena» эта схема в упрощенном виде неоднократно повторяется, чтобы показать формы сотрудничества двух демонов, необходимых друг другу в борьбе за глубины человеческой души. Главная задача Люцифера – сломать, фальсифицировать бытийную связь человека с божественным целым. Второй шаг – за Ариманом: он должен распылить и уничтожить потерявшее основы человечество. «Люциферово действие можно назвать извращающим (инвертирующим), а Ариманово — развращающим (первертирующим)»8. Поэтому действия демонов можно узнать «по делам их», что Иванов и демонстрирует на материале романов Достоевского: Люциферова инверсия обнаруживается везде, где гордыня и самовластие присваивают себе божественные права; Ариманова перверсия – там, где начинается опустошение этого самовластного мира и выявляется вся сатанинская топология: дробление, разделение, переворачивание, выворачивание, отражение, анаморфоза. При всем единстве между демонами нет равенства: Люцифер – «князь мира сего», Ариман – его «приспешник, палач, сатрап и в чаяньи своем, престолонаследник»9. Это придает и некоторую напряженность их отношениям (которая обнаруживается в романных проекциях, в коррелятивных им парах персонажей). Однако они не только сотрудничают, но и иногда берутся за работу друг друга. Так, замечает Иванов, черт Ивана Карамазова, типичный представитель Аримана, развивает чисто люциферический замысел: «Раз человечество отречется поголовно от Бога, – человек возвеличится духом божеской, титанической гордости, и явится Человекобог»10.
Иванов, изображая действие этих метафизических сил, придает им почти физическую силу детерминации. В этом он, несомненно, находится под влиянием историософии двух градов, созданной бл. Августином, и моральной динамики дантовских миров. Весьма показательно воспоминание Евгении Герцык. «Вячеслав говорил о двух обратных направлениях – или двух сферах – добра (бытия, Бога) и зла. Добро на начальных ступенях (или на периферии сферы) solutio (разреженность, рассеяние), потому что начально оно всегда свобода, легкость, оно почти безвидно. Далее же, выше, оно, подобно 9-ти ангельским степеням, устремленно, свободой своей избирает свою необходимость. Высшее в добре, в центре Дантова рая – coagulatio, спаянность, сгущенность, там действует центростремительная сила, которая все, что любовь, что добро, бытие, спаивает в одной точке. Наибольшее coagulatio, бытие в энной степени – высшая красота. Обратно в зле: там на первых ступенях, на периферии – coagulatio (потому что эта сфера подчинена закону центробежному, гонит все вовне) – сгущенные яркие образы; вместо свободы – «прелесть», красота. Далее, глубже убывает сгущенность, рассеивается красота. В центре, из которого центробежная сила гонит все, – ничего, мрак, провал»11. Характерна здесь эстетическая окраска этой градации метафизического движения, которая и для Иванова, и для Достоевского была индикатором духовной добротности.
Объяснительная сила ивановской мифологемы зла, ее, если угодно, функциональность особо выявляется в том культурфилософском контексте, в который помещает ее автор. По Иванову, в самом фундаменте культуры содержится как некий первоакт самоутверждения Люцифера: «действие в человеке люциферических энергий, будучи необходимым последствием того умопостигаемого события, – отпадения от Бога, – которое Церковь называет грехопадением, составляет естественную в этом мире подоснову всей исторической культуры, в главных чертах ее языческой по сей день, и поистине первородный грех ее; ибо культура лишь отдельными частями «крещена» и только в редких случаях “во Христа облекается”»12. Культура без грехопадения – это гуманистическая просветительская фикция, которую Иванов не только отвергает, но и точно указывает на ее фатальный парадокс: желая возвеличить человека, она его принижает. «Таков взгляд антропологического оптимизма, который испуганно отвергает понятие «первородного греха», – то есть первоначального самоопределения человеческой воли, отказавшейся от Бога, и всех последствий этого метафизического происшествия, и предпочитает видеть в человеке звено в цепи восходящего развития; он не замечает при этом, что человек таким образом не облагораживается, а снижается, ибо ему предложено не превзойти самого себя, а отказаться от изначально ему присущих прав»13. Различение культурных деяний Люцифера и Аримана важно еще и потому, что их губительные силы не равноценны, и борьба с ними протекает по-разному. «Если от Аримана спасает один Христос Воскресший, то чары Денницы рушатся уже от приникновения к живой Земле. Люцифер идеалист; ненавистная Люциферу реализация его есть Ариман. Реальные соперники – Христос и Ариман. Христос несет тварности девственную непорочность и воскресение, Ариман – тление и небытие»14. Таким образом, стадия люциферизации культуры является 1) неизбежной; 2) излечимой. «Живая Земля» в контексте мифологии Иванова указывает на развитый в части «Mythologumena» мотив женственного начала, который Иванов прослеживает во всем романном корпусе Достоевского. Русская Душа Земля, гласит эта мифологема, томится ожиданием суженого жениха, героя Христова. Она есть женское начало сокровенного народного бытия, плененное и покинутое. Но при всей своей слабости и даже безумии она обладает мистическим даром отличить истинного богоносца от изменника и самозванца15. «В метафизическом единстве народа различимы два начала: женственное, – душевное, совершительное, – и мужественное, духовное, зачинательное. Первое вырастает из общей Матери – живой Земли (Мировой Души), взятой как мистическая реальность; второе приблизительно соответствует в личности народа Платонову hegemonikon, a на языке Откровения могло бы быть названо народом-ангелом»16. Одна из задач Аримана (особенно в его коллективных формах) – вытеснить мужеское духовно-творческое из сферы воздействия на душу и жизнь народа. Здесь возможен и его конфликт с Люцифером. По мнению Иванова (которое вряд ли можно признать без оговорок), Достоевский соединяет данное в Писании понимание союза Бога и народа, Христа и Церкви как брачного союза с «дионисийским» мотивом слияния духа с душой природы. «Христианский народ, духовно устрояемый в Церкви, взятый как органическое душевное единство, совпадает, в некотором смысле, для Достоевского, с Землей как мистической сущностью»17. Иванов, видимо, собирался развить эту тему в отдельную ветвь, в мифологему Великой Блудницы (ср. Откр. 17.1, 5, 15, 16; 18.2, 9), которая дополнила бы диаду Люцифера-Аримана до триады и была бы, возможно, сатанинским антиподом софиологии. Однако фактически тема осталась на уровне анализа в «Mythologumena» довольно сложной типологии женских образов – воплощений стенающей и ожидающей своего спасителя Мировой Души – в романах Достоевского.
Еще один путь, спасающий культуру от Аримана, – это преодоление стагнации и безостановочное творчество. (Здесь Иванов солидаризуется с Гёте, таким же образом оправдавшим своего Фауста). «Динамизм люциферического процесса изгоняет Аримана из сферы своего действия, хотя и не радикально и более феноменологически, чем по существу. Он рушит и плавит формы Ариманова самоутверждения, и Ариман должен забирать потерянные пространства сызнова и по-новому, как только что снятая плесень опять нарастает на той же поверхности, пока не изменится состав притекающего воздуха»18. По сути, это не спасение, а отсрочка, позволяющая культуре накопить силы для момента принципиального выбора, который, по Иванову, уже близок. Он не возлагает особых надежд на динамику культуры: «Решается соперничество в исторических судьбах Земли через человека и в человеке. Ныне княжит в нем и через него Люцифер, творящий культуру, – какою мы доныне ее знаем. Воля культуры – поработить природу; воля природы – поглотить культуру. Культура, по Достоевскому («Подросток»), – уже «сиротство», «великая грусть» о «заходящем солнце». Культура пришла к концу или к распутью? В теперешнем ее состоянии она спасается своею динамикой и должна бежать, безостановочно бежать, как зверь, травимый ловцом. Ее гонит «князь мира» со сворою Аримановых собак. Долго ли еще может продолжаться этот бег?»19 Люциферический (т.е. культурно-исторический) процесс, утверждает Иванов, завершается и приводит к развилке между узкою тропою Христа и широкою дорогою Аримана. Но культуру ждет еще одно тяжелое испытание: когда силы Люцифера истощатся (что неизбежно для обезбоженной сущности) и окончательно распадется духовная личность, начнется (и уже начинается) эпоха Легиона – социальной ипостаси Аримана, воплощенной в деперсонализированных демонизированных массах. «Наступает время не только теснейшей общественной сплоченности, но и новых форм коллективного сознания»20. К этим новым формам Иванов особенно чуток, что ставит его в один ряд с главными культур-критиками XX века. «Скопление людей в единство посредством их обезличения должно развить коллективные центры сознания, как бы общий собирательный мозг, который не замедлит окружить себя сложнейшею и тончайшею нервною системой и воплотиться в подобие общественного зверя, одаренного великою силою и необычайною целесообразностью малейших движений своего строго соподчиненного и сосредоточенного, существенно механического, но и как-то одушевленного состава. Это будет эволюцией части человечества, количественно преобладающей, к Сверхзверю, про которого будут говорить, как пророчит Откровение Иоанново: “Кто подобен зверю сему?”»21Иванов прямо указывает на идейные воплощения Легиона: «На этой наклонной плоскости мы наблюдаем уже Гегеля с его учением о государстве, и еще более марксистский идеал пролетариата»22. (Справедливости ради надо заметить, что по отношению к Гегелю Иванов некорректен. Гегелевский этатизм принципиально антитоталитарен, что особенно хорошо видно в свете истории XX века. Но в своем заблуждении Иванов не одинок: образ Гегеля как вдохновителя тоталитарной идеологии и по сей день – распространенная аберрация.) Как всегда в своих размышлениях, подчеркивая логику неуклонной эволюции «двух Градов», Иванов указывает, что Легион от Соборности отличается методичным стремлением не только атомизировать общество, но и лишить атом его личностного ядра, заменив его специализацией: «человеческое общество, ставя своим образцом Легион, должно начать с истощения онтологического чувства личности, с ее духовного обезличения. Оно должно развивать, путем крайнего расчленения и специализованного совершенствования, функциональные энергии своих сочленов и медленно, методически убивать их субстанциальное самоутверждение. Соборное всеединство во Христе, напротив, есть такое соединение, где соединяющиеся личности достигают совершенного раскрытия и определения своей единственной, неповторимой и самобытной сущности, своей целокупной творческой свободы»23. Не избегая сакраментального вопроса «что делать?», Иванов категорично утверждает: «Ревнивее всего должен человек в наши времена святить свободу, достойно и праведно переживать и познавать ее в себе и не поступаться ею иначе, как для добровольного послушания тому, что он обрел, как высший закон в собственной сердечной глубине»24. Стоит при этом отметить, что Иванов не разделяет иллюзий наивного рационализма, предполагающего разоблачить и обезвредить Легион критическим сознанием. Проблему Легиона он относит к «непроницаемым тайнам Зла». «Как разъединение может стать принципом соединения, как ненависть может сплавлять взаимоненавидящие элементы, – нам, к счастью, по существу не понятно. Но наличность Легиона, одновременно именующего себя «я» и «мы», все же дана, как феномен»25. «К счастью» – потому что Иванов делает оригинальный ход мысли и полагает особой духовной привилегией «сыновей Логоса» не понимать то, что потеряло бытийные истоки. Легион как особый аспект зла наряду с Люцифером и Ариманом – позднее построение Иванова, но тем более глубоки и актуальны его наблюдения, сделанные на основе личного драматического общения и со славянским, и с тевтонским Легионами.
Поскольку мифологемы Иванова весьма своеобычны и не укоренены в богословской традиции, отнюдь не праздным вопросом является проблема их соотношения с оккультной идеологией эпохи. Гносис, манихейство, экзотические формы религиозности и т.п. были модой и естественной ментальной средой Серебряного века26. Но Иванов – один из идейных вождей эпохи – имел особый генезис своего мировоззрения и в силу личной духовной биографии, и в силу «поколенческой» логики, сближающей его с Вл. Соловьевым. Поэтому оккультные идеологии влияли на него довольно поверхностно, скорее, на уровне лексики и образного ряда. Исследователи отмечают как заинтересованность Иванова оккультными веяниями, его личные контакты с адептами разных оккультных толков, так и его постоянную и неслучайную дистанцированность от них27. Существенно для нашей темы его собственное свидетельство. В статье А.Б. Шишкина (вообще важной для понимания места Достоевского в творчестве Вяч. Иванова) приводится отрывок из письма к немецкому корреспонденту от 11 мая 1949 г.: «Теперь я сожалею, что не избрал другие имена (скажем, Лючифер и Летифер, от Letum – смерть), чтобы никто из читателей не принял моих соображений за переложение антропософского учения о двух существах, друг другу противостоящих, как учат, начиная уже с Рудольфа Штейнера. С этим учением, которое не знает ни сатану, ни Богом созданную изначальную свободу, мои соображения не имеют ничего общего. У Штейнера дело шло о двух независимых друг от друга космических силах, из которых одна действует как Люцифер, хоть и вызывает обманчивые образы – что может замедлить духовный путь человека, но все же дает ему чувство его свободы и храбрость для самосознания, правда, слишком рано, в то время как другая сила ищет сделать его рабом материи. Я вижу в обеих силах два аспекта или две личины, две ипостаси единого существа, то есть Лукавого (Сатаны); непостижимая третья ипостась должна, как мне кажется, иметь женскую природу, она является как великая блудница Апокалипсиса. Под «легионом», с другой стороны, я понимаю социологический результат союза мужских ипостасей. В моей книге я намеренно умолчал, что оба демона уже у Штейнера в некоторой мере являются коррелятами, умолчал по двум причинам: во-первых, мне хотелось избежать тона полемики с антропософами; во-вторых, указание на доктрину Штейнера могло быть понято как косвенное признание внутренней родственности моего мировоззрения с этим учением. Это мое разъяснение Вы можете, многоуважаемый доктор Мюллер, опубликовать, если это будет нужно»28. Этот самокомментарий хорошо показывает как общие контуры замысла Иванова, так и его радикальное отличие от антропософского учения.
Для Серебряного века ивановский метод выстраивания мифа, не заложенного непосредственно в романном тексте, но при этом связанного с ним глубинными интенциями, не был чем-то необычным или новаторским. Своеобразная рекуперация – восстановление мифа, растворенного в духовно значимом «тексте» – уже для первых русских адептов символизма была одной из основ их эстетической алхимии. Но притча про Люцифера, Аримана, Блудницу и силы Легиона, придуманная Вяч. Ивановым, несколько выходит за рамки этого приема. Перед нами не игра с темами Достоевского, но их предельное сгущение вплоть до статуса пра-феномена, что неизбежно выводит связку этих тем из круга литературных явлений в пространство актуального исторического самосознания и в то же время в дорефлексивные пророческие глубины. Иванов вслед за Достоевским как бы осуществляет фаустовское странствие «zu den Muttern», к источнику первообразов, что дает ему право на собственное мифотворчество. Поэтому его построениям не припишешь характера толкования текста или его образной парафразы, но зато им свойственна обобщающая и объясняющая сила «поэмы о Великом инквизиторе».

Вы можете скачать Четырнадцатый выпуск Бюллетеня /ЗДЕСЬ/
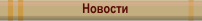
- Культура – вещь бескорыстная. Беседа с Еленой ТАХО-ГОДИ.
- 02 - 11 сентября 2016 года - Всероссийский фестиваль энергосбережения "ВместеЯрче"
- 6 сентября 2016г. Ярмарка вакансий для молодёжи "Первый шаг к успеху"
- 12-24 сентября 2016г. Международная научная конференция XV «Лосевские чтения»
- 21- 25 сентября 2016 г. Российский форум коллекционеров
- 8 – 9 декабря 2016 г. Международная научная конференция «Д.С.Мережковский: писатель – критик – мыслитель. К 75-летию со дня смерти»
- Программа "Читаем Аристотеля" в Библиотеке "Дом А.Ф. Лосева".
- Детская студия «Карандаш и кисточка»
- Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы» Программы
- Семинар «Русская философия» Программы
- Архив новостей
 '
'
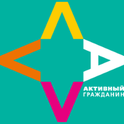
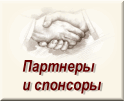


-
В августе 2016 года исполняется:
- 14.08 — 150 лет со дня рождения Д.С. Мережковского
- 28.08 — 105 лет со дня кончины Д.Н. Цертелева
- 28.08 — 125 лет со дня рождения В.Н. Ильина
подробнее об этих и других событиях...
2016 - Год Аристотеля...
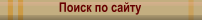
|