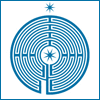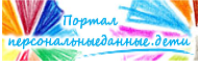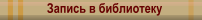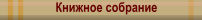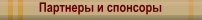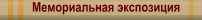Бюллетень. Номер четырнадцатый. Наши публикации
Жорж Нива (Франция). Диптих Толстой / Достоевский как создание «нового Сократа»
«Серебряный век» ни в коем случае не резюмирует все веяния и настроения в русской культуре начала ХХ в. Прогрессивные направления (сборник «Знание») или либеральные направления (журнал «Вестник Европы») живут, почти полностью игнорируя символизм в литературе или новые религиозные тенденции. Так, Достоевский практически отсутствует в «Вестнике Европы» М. Стасюлевича. Свидетельствует об этом и передовая статья К. Арсеньева, открывающая юбилейный номер за декабрь 1915 г., когда журнал отмечал свое 50-летие. Если Вл. Соловьев публиковался в «Вестнике Европы», то главным образом как опальный мыслитель, тогда, когда его друг Ф.М. Достоевский там вовсе не упоминался. Литературный герой «Вестника» – это Тургенев, который был в полном смысле слова «своим». Толстой также отсутствует, хотя в ноябре 1910 г. «Вестник» посвятил ему некролог.
Стоит обратить внимание на появившуюся в том же юбилейном номере «Вестника Европы» «Страничку из воспоминаний» под заголовком «Первая дружба с писателем» Нестора Котляревского. «Вся наша жизнь была наполнена наукой и искусством», – призается Котляревский. Однако ему и его ровесникам казалось, что настоящее бледно и бедно. Ушел из жизни в Париже их «властитель душ» Тургенев. А Лев Толстой убедил себя, что он прежде всего не художник, а дурной человек. «Большой шум стоял тогда вокруг имени Достоевского. В 1881 году он умер, завещав все свое духовное наследство Алеше Карамазову». Но, как пишет Котляревский, «с Алешей дружба как-то не скеилась. Высота и глубина Достоевского были недосягаемы для молодого читателя. Ближе был Щедрин, мог бы стать “нашим любимцем”, но навеял скуку. Из молодых писателей, их герой был Гаршин, но Гаршин не давал разрешений людским трагедиям. Короленко стал его кумиром, в “отсутствии” Толстого и Достоевского»...
Котляревский принадлежит поколению, для которого день 1-го марта разделил жизнь на до и после, поэтому у него речь идет в первую очередь не о смерти Достоевского, а о гибели императора. Однако эти заметки Котляревского дают возможность понять, что для многих в 1881 г. исчезли из виду и Достоевский, и Толстой. Толстой теперь предлагал разрушить «храмину жизни» и все построить заново – это было не для них. Также они не были способны следом за Достоевским «в людях видеть Бога и сознать себя Богоносцем».
Вяч. Иванов в статье «Лев Толстой и культура», написанной вслед за уходом и смертью Толстого, говорил о нем как об «антиподе» Достоевского». Он ни художник-«облачитель» («являть ноуменальное в облачении феномена»), ни художник-символист («знающий, что жизнь вмещает Бога»). По Вяч. Иванову, Толстой – антиномичен («будучи сам по себе фигурой противохудожественной»).
«Антипод Достоевского» (который есть и облачитель, и символист) – это намек на диархию, выстроенную Д. Мережковским в знаменитой книге «Л. Толстой и Достоевский», имевшей огромный успех и надолго определившей позицию обоих писателей не только в русской литературе, но и в русском сознании начала ХХ в. Диптих «ясновидец духа / ясновидец плоти», может быть, не так важен, как важен тезис, что в России литература определяет будущее. И эта литературная биполярность служит «водораздельной чертой», как и эпоха Петра в свое время.
В некотором смысле эта биполярность «Толстой и Достоевский» является следующим этапом выявления и осознания значения России, ибо оба ясновидца помогли не только придать ясность «русской идее», но и явить все больше и больше «всемирного значения», которое выражается в русской литературе. Узнав и признав самобытность русской идеи благодаря Достоевскому и Толстому, русские освободились от Запада. Толстой помог Достоевскому уточнить свое понимание русской идеи. Доказательством тому служит статья Достоевского об «Анне Карениной». «Книга эта прямо приняла в глазах моих размер факта, который бы мог отвечать за нас Европе», – писал Достоевский. Эта цитата из «Дневника писателя» помогла Мережковскому подчеркнуть некое содействие обоих одному делу – созданию нового образа России. Признание Европой этого факта подтверждается такими разными мыслителями, как Ренан, Флобер и Ницше.
Россия осознает себя как вестницу нового мирового смысла. Стихотворение Пушкина «В начале жизни школу помню я…» с видением двух демонов, то есть языческих богов – Аполлона и Диониса, – этому пример. Оно показывает нам, что Пушкин собой представляет слияние двух принципов, языческого и предхристианского начала.
Книга Мережковского особенно интересна тем, что она написана в промежуточное время: Достоевский уже умер, Толстой еще жив. Трудно сопоставить живого с мертвым, хотя Толстой-художник уже умер, что дает возможность лишь строить догадки, что именно там происходит, то есть у живого Толстого в Ясной Поляне, у этого нового Эпикура, у «северного эпикурейца». Есть в книге Мережковского даже доля злобства в множественных намеках на материальнные блага, которыми, мол, пользуется этот «северный эпикурец». «Достоевскому не нужно было доказывать себе, что деньги – зло».
Мережковский задается странным вопросом: почему, узнав о смерти Достоевского, Толстой стал перечитывать не один из шедевров Достоевского, а «Униженных и оскорбленных». Не потому ли, что он чурается настоящего Достоевского?
Бинарная оппозиция «Толстой и Достоевский» выстраивается на разных основаниях: один социалист – другой враг социализма; один знал только счастье – другой мытарства; для первого литература как establishment – дом сумасшедших, а для Достоевского современный герой – это именно литератор, как герой в «Униженных и оскорбленных». Толстой – Калибан, готовый уничтожить Парфенон, Достоевский – Ариэль и защитник культуры. Но хотя в Достоевском – огонь, а в Толстом – лед, оба недостаточно воспитывают, просвещают народ, ибо происходит удивительный семантический хиазм. Каждый из них становится «другим», то есть «противоположностью» самого себя. И в этом парадоксе самая суть книги.
Язычник Толстой становится христианином в том смысле, что он, как никто, понял Евхаристию буквально. «Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную», и «Ядущий Меня будет Мною». Толстовский герой управляет не собой, а неким целым, унифицирующим началом. А христианин Достоевский уходит вспять и вглубь до греческой, то есть языческой, трагедии. Борьба и огонь, столкновение протагонистов доводят героев до крайней изоляции – и действие до крайней нерешимости.
«Он разрешал страдания, но их не утолял». Тут вырисовывается главный тезис книги Мережковского и вообще его оригинальная философская новизна: идея второго Возрождения, действующими лицами которого являются Толстой и Достоевский.
При первом Ренессансе шла борьба язычества и христианства, борьба, имеющая целью слияние античности и возобновленного христианства, как она олицетворена Микеланджело и Леонардо да Винчи. Микеланджело снял покров тысячи лет христианства и христианской аскезы. Его Моисей – просто фавн, но его Сивиллы и его скифские пленницы «стремятся к освобождению от плоти, от камня, от вещества». В то время как у да Винчи тела насквозь одухотворены, проникнуты таинственным светом. «Горящий дух в них насквозь просвечивает». Как в стихотворении Пушкина: «То были двух бесов изображенья…»
Оппозиция язычество/христианство, Дионис/Аполлон являет себя не только в литературной диархии Толстой/Достоевский – оно есть ядро нового Ренессанса, пророком которого выступает Мережковский.
Толстой – новый Микеланджело, новый ариец. Достоевский – новый да Винчи и новый еврей-христианин.
И слова Достоевского о Европе, где «все подкопано и начинено порохом и ждет только первой искры» («Дневник писателя», март 1876, «Сила мертвая и силы грядущие»), служат Мережковским предостережением: «Или мы, или никто». Это удивительное заключение книги о двух русских ясновидцах ведет нас, конечно, к стержневой идее Мережковского о новом религиозном сознании, о христианстве Третьего завета. Однако, как я уже сказал, нас поражает в этой книге примат литературы в обдумывании русского будущего. Оба ясновидца именно и есть «силы грядущие».
Ницше оказывается как бы «tertium datur» бинарной пары Достоевского и Толстого. Это еще явнее в тогдашних этюдах Льва Шестова. Одновременно с книгой Мережковского выходит «Достоевский и Ницше», а потом «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше». Собственно говоря, обе книги также касаются значения диархии Толстой/Достоевский. Для Мережковского ни первый, ни второй не досказали главное. Для Шестова оба, как и Ницше, «зовут к себе читателя как свидетеля». Все три ищут право на существование, даже после краха их убеждений. Крах убеждений – главная тема книг Шестова. Как и Мережковский, Шестов ищет ключ в статье Достоевского об «Анне Карениной», но его поражают полярно противоположные позиции писателей в деле «сочувствия страданиям славян». Как это возможно! Все объясняется их позицией относительно собственного кризиса. Достоевский хочет продлить свои идеалистические убеждения, а на самом деле давно уже «потерял почву под собой». Толстой хочет сохранить свой идеал посредственности, априорной косности, неподвижности, консерватизма Николая Ростова, но уже щель появилась и скоро он тоже почувствует, что «почву потерял под собой». Вот это и объединяет их: потеря почвы. Именно поэтому они великие свидетели нашего скрытого кризиса, кризиса разума. Пусть один обостряет антагонизмы, пусть другой их стирает, даже отрицает. Оба наталкиваются на стену. Эта стена – стена кантовского «Ding an Sich». Заратустра изобрел «светлое и долгое молчание» с тем, чтобы никто не мог заглянуть в его глубину и узнать его последнюю волю. Таким же образом оба свидетеля краха разума выпроважают в область «Ding an Sich», непознаваемой и умолчанной, все, что грозит взрывом. Выпроваживается князь Болконский, остается на просцениуме Николай Ростов, но все равно перерождение произойдет внутри самого Льва Николаевича. И также Достоевский-идеалист выгоняется Достоевским-палачом, испуганным собственной бездной. Обыкновенные люди с их привычной ложью – вот омерзительный враг, враг-врун.
Есть глубоко иронические моменты в этом диптихе Шестова. Идеалист Достоевский в «Мертвом доме» констатирует, что русский народ любит страдания. Тот же идеалист хочет стать за добро и счастье. «Но как же применить такое положение на практике? Предложить устройство комитета, охраняющего русский народ от счастья?!» – вопрошает Шестов в книге «Достоевский и Ницше». «Симуляция» добра, счастья, веры играет большую роль у обоих великих борцов против самих себя. Как Ницше, они оба и врач, и больной. Ницше и его книги, например «Человеческое, слишком человеческое», существуют для «свободных» людей (заметка Ницше в дневнике 1888 г., приведенная Шестовым). Толстой и Достоевский как совокупности также существуют для свободных людей, ибо они противоречат сами себе и никогда не рассуждают по правилам логики, как, например, Спиноза. Они – великие и мощные средства против болезни эпохи: позитивизма, веры в науку.
«Русскому читателю, воспитанному на проповедях Достоевского и гр. Толстого, не мешало бы хоть раз убедиться в том, что сила красноречия, страстность тона, искренность могут быть направлены не только в защиту того, что у нас принято называть “правдой”, что можно также пророчески вдохновиться делом “зла”, как и делом “добра”». На самом деле «кризисы» каждого из них содержат доказательства этому «кривлянью» (если употребить выражение Шестова из работы «Достоевский и Ницше»).
Постройка диптиха Достоевский/Толстой оказалась прочной. Она формирует восприятие вообще русской литературы. «Tolstoy or Dostoevky» гласит заглавие книги Джорджа Штейнера. Этот диптих вошел в мифологию европейской культуры. А в русской остался до установления догмата социалистического реализма. В сборнике о религии Толстого, опубликованном после кончины писателя, в 1912 г., почти все участники ссылаются на книгу Мережковского. Н. Бердяев приветствует ее как книгу, где впервые были исследованы религиозная стихия и религиозное сознание Л. Толстого, вскрыто язычество Толстого. Интерпретация Бердяева имплицитно сравнивает Толстого с Достоевским, когда Бердяев подчеркивает, что религия Толстого – религия Отца и что Сын у него отсутствует, ибо ему Сын не нужен. Тем не менее там же Бердяев поразительно пишет: «Мы любим Толстого, как родину». Стоит напомнить выражение Вяч. Иванова в статье «Лев Толстой и культура» о Толстом как антиподе Достоевского. В «Идиоте» сказано, что красота спасет мир, а на самом деле нужна «нелепость», нужна эпоха распада религии, нужна «несообразность» или «нелепость» (атопия) Толстого-Сократа.
Может быть, ни один текст так хорошо не характеризует тот примат литературы в русской действительности, примат, воплощенный диархией Толстой/Достоевский, как текст Андрея Белого «Настоящее и будущее русской литературы». Белый утверждает, что религиозные искания Толстого «не разрешаются в религиозном действии, а только в моральной проповеди, в глухой забастовке». И тут какой контраст с Достоевским! «Как не похож он на Достоевского, который хотел дела и не далось ему дело: он был ослеплен видением религиозного будущего и устами Зосимы ответил на будущее это: Буди, буди!» Белый напоминает нам, что ни Достоевский, ни Толстой не были причастны к интеллигенции, но, утверждает Белый, теперь интеллигенция признала Достоевского и тем же «признала свою религиозную связь с народом».
Назови это «связь с народом», «ясновидение», уход в народ или теургия – диптих Толстой/Достоевский выявляет примат русской литературы в русской жизни и истории того времени. И на Западе этот примат, идущий из России, менял культурные вехи. Даже эстет Пруст в своем эссе «Против Сент-Бёва» это чувствовал и, читая Толстого и Достоевского, входя в их «огромные дома», замечал: «Каждый день я придаю меньше значения уму».
Однако вера в русскую литературу как фактор, определяющий будущее, исчезла. Революция свела ее почти к нулю. И как записал Василий Розанов во втором коробе «Опавших листьев», литература могла бы стать школой народа, но не стала. «Даже без всякого школьного учения географии и истории – просто передумать только Толстого и Достоевского значит стать как бы Сократом по уму, или Эпитектом, или Марком Аврелием, – люди тоже не очень “знавшие географию” и не кончившие курса в гимназии».
Такова была мечта части тогдашней России: диптих, диархия, подаренная Россией миру, создаст новую народную Россию – умную, но «без ума», то есть создаст русского коллективного Сократа...

Вы можете скачать Четырнадцатый выпуск Бюллетеня /ЗДЕСЬ/
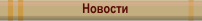
- Культура – вещь бескорыстная. Беседа с Еленой ТАХО-ГОДИ.
- 02 - 11 сентября 2016 года - Всероссийский фестиваль энергосбережения "ВместеЯрче"
- 6 сентября 2016г. Ярмарка вакансий для молодёжи "Первый шаг к успеху"
- 12-24 сентября 2016г. Международная научная конференция XV «Лосевские чтения»
- 21- 25 сентября 2016 г. Российский форум коллекционеров
- 8 – 9 декабря 2016 г. Международная научная конференция «Д.С.Мережковский: писатель – критик – мыслитель. К 75-летию со дня смерти»
- Программа "Читаем Аристотеля" в Библиотеке "Дом А.Ф. Лосева".
- Детская студия «Карандаш и кисточка»
- Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы» Программы
- Семинар «Русская философия» Программы
- Архив новостей
 '
'
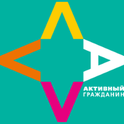
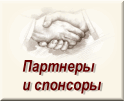


-
В августе 2016 года исполняется:
- 14.08 — 150 лет со дня рождения Д.С. Мережковского
- 28.08 — 105 лет со дня кончины Д.Н. Цертелева
- 28.08 — 125 лет со дня рождения В.Н. Ильина
подробнее об этих и других событиях...
2016 - Год Аристотеля...
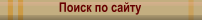
|