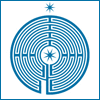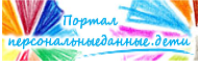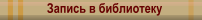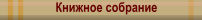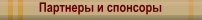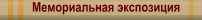Бюллетень. Номер четырнадцатый. Наши публикации
Марченко О.В. Достоевский и тема «культурной сложности» Серебряного века
Говоря о Достоевском и теме «культурной сложности» Серебряного века, вспоминаю замечательные слова, сказанные в 1911 г. Вяч. Ивановым: Достоевский «жив среди нас, потому что от него или чрез него всё, чем мы живем, – и наш свет, и наше подполье. Он великий зачинатель и предопределитель нашей культурной сложности. До него всё в русской жизни, в русской мысли было просто. Он сделал сложными нашу душу, нашу веру, наше искусство, создал, – как “Тёрнер создал лондонские туманы”, – т.е. открыл, выявил, облёк в форму осуществления – начинавшуюся и еще не осознанную сложность нашу; поставил будущему вопросы, которых до него никто не ставил, и нашептал ответы на еще не понятые вопросы. Он как бы переместил планетную систему: он принес нам, еще не пережившим того откровения личности, какое изживал Запад уже в течение столетий, – одно из последних и окончательных откровений о ней, дотоле неведомое миру»1. Те же слова присутствуют и на страницах позднейшей книги Вяч. Иванова «Достоевский. Трагедия – миф – мистика» (начало 1930-х гг.)2.
Тема «культурной сложности» звучит в связи с Достоевским и в полемике В.Ф. Эрна с русскими философами круга журнала «Логос»3. Процитировав фрагмент из программного редакционного предисловия «логосовцев», написанного С.И. Гессеном и Ф.А. Степуном («Мысль наша никогда не была вполне свободною и вполне автономною. Основные принципы русской философии никогда не выковывались на медленном огне теоретической работы мысли, а извлекались в большинстве случаев уже вполне готовыми из темных недр внутренних переживаний»4), Эрн иронически замечает: «Редакции “Логоса” “темные недра внутренних переживаний” представляются, очевидно, в виде огромного мешка, в котором “готовыми” хранятся “принципы”, убеждения, чувства и движения воли. <…> Нужно иметь огромную смелость, чтобы в стране Достоевского с такой решительностью провозгласить теорию “мешка готовых переживаний”»5. «Явление Достоевского, – продолжает в другой статье Эрн, – совершенно новое в истории мирового сознания, звучащее откровением для всех культур мира, <…> – ничего равного не находит себе в европейской современности»6. И далее, проясняя в последующих работах столь значимую для него антитезу новоевропейского ratio и антично-христианского Λόγος’а, философ утверждает, что глубинный пафос русской культуры – палинодия, своеобразная «метанойа», возвращение к небесному Отцу, утверждение трансцендентизма, онтологических святынь и онтологической Правды. И заметнее всего этот пафос в «гениальных вершинах (нашего. – О.М.) <…> культурного самосознания»: «Достоевский – ведь это сплошной гимн возврату, гимн экстатический, гимн полифонный, с голосами всех разрозненных русских стихий, даже больше: по замыслу – во всемирной, всечеловеческой инструментовке»7.
Художественный мир, созданный гением Достоевского, настолько завораживал русских религиозных мыслителей конца XIX – начала ХХ века, что грань между художественным вымыслом и действительностью становилась для них условной, зыбкой, проницаемой, и одно порою переходило в другое и наоборот. По-видимому, нечто важное у персонажей Достоевского, вовлеченных в событие искания и испытания истины с существенным сращением идеи и ее носителя (М.М. Бахтин), с неизбежным драматизмом, двойственностью и двойничеством, касанием миров иных и подпольем, интонировало самому душевному строю, а может быть, и создавало впервые такой душевный строй русских философов, определяя как радикализм их мышления и поведения, так и формы описания и самоописания8.
Уже при жизни Вл. Соловьева горячо обсуждалось, прототипом кого из братьев Карамазовых он послужил: Ивана – или все же Алеши; это означало готовность современников понимать Вл. Соловьева как персонажа романов Достоевского. В начале 1870-х в Москве, писал племянник философа, «Соловьева начали окружать “странные люди”, мистики, колебавшиеся межу православием, спиритизмом и... выпивкой, видевшие в молодом философе существо “сверхчеловеческое”. “Неужели они думают, – говорил как-то Владимир Сергеевич моему отцу, – что у меня не хватило бы пороху основать секту?” И некоторые люди впоследствии, когда в 90-х годах Соловьев отказался от прежних широких практических задач и перешел к философии и публицистике, с горькой иронией называли его “неудавшимся Мессией”. В общем это окружение странными энтузиастами напоминает окружение Николая Ставрогина в романе Достоевского “Бесы”, и не один Шатов готов был с горечью воскликнуть: “Много вы значили в моей жизни, Владимир Сергеевич!”»9 Стремление рассматривать Соловьева сквозь призму романов Достоевского привлекает и сегодня10.
Художественная реальность романов Достоевского, с ее необъятными запасами времени (σχολή), в котором, как в царстве мертвых или в захолустном российском городке, Некрополисе, раскрывается вечность («мы... сошлись в беспредельности... в последний раз в мире»), где встречаются Парменид и Аристотель, Сократ и Декарт, Чаадаев и Ставрогин, Пушкин и инок Парфений, – эта романная реальность становится реальностью философской par exellens. «<...>Хочу выставить во 2-й повести главной фигурой Тихона Задонского; конечно, под другим именем, но тоже архиерей будет проживать в монастыре на спокое [замысел «Жития великого грешника». – О.М.]. <...> Тут же в монастыре посажу Чаадаева (конечно, под другим тоже именем). Почему Чаадаеву не просидеть года в монастыре? Предположите, что Чаадаев, после первой статьи, за которую его свидетельствовали доктора каждую неделю, не утерпел и напечатал, например, за границей, на французском языке, брошюру, – очень и могло бы быть, что за это его на год отправили бы посидеть в монастырь. К Чаадаеву могут приехать в гости и другие: Белинский наприм<ер>, Грановский, Пушкин даже. <...> В монастыре есть и Павел Прусский, есть и Голубов, и инок Парфений» (письмо Достоевского А.Н. Майкову, март 1870 г.)11. В этой философской реальности пробуется «на излом» европейский философский дискурс от Парменида до Ницше, здесь сталкиваются не только мировоззрения, не только точки зрения и формы ви́дения мира, но прежде всего сами способы осуществления этих ви́дений, сталкиваются онтологии. «<...>Автор посчитал возможным существование такой драмы, <...> где бы не речь, подчиненная минутным впечатлениям, но целая жизнь одного лица служила бы вопросом или ответом на жизнь другого», – определял свою творческую задачу В.Ф. Одоевский, автор первого русского философского романа «Русские ночи»12. Задачу, для художественного дарования Одоевского оставшуюся непосильной, выполнил с непревзойденной степенью совершенства Достоевский, с его необычайно острым ощущением современности как эпохи глобального кризиса христианской культуры, проявляющегося в распаде традиционных форм жизни, душевном хаосе и расслабленности, нравственной анархии, скептицизме, безверии и беспринципности, чреватых чудовищными духовными, социальными и политическими потрясениями. Отсюда обилие и глубина художественных образов, отражающих многообразие православного религиозного переживания и богоборческого бунта. Разнузданное рационализирование, в котором боль и страдание являются состояниями бытия, а Бог – страхом перед болью, «ничто», неизбежно ведущее к самооправданию, вседозволенности и человекобожию, представлено персонажами-идеологами, носителями утонченно-софистических теорий. И здесь же образы смирения, кротости, всепрощения, в которых слиты воедино судьба, вина, необходимость, долг, открытость страданию, – такие глубины религиозного опыта, где немыслима теория, неосуществима работа понятия, но ощущается действенное присутствие Бога13.
На протяжении веков в европейской традиции образцом философа был Сократ: человек самый лучший из всех, кого довелось нам узнать на нашем веку, да и вообще самый разумный и справедливый, – свидетельствовал Платон. «Французским Сократом» называли современники Пьера Абеляра, «украинским Сократом» – Григория Сковороду, «китайским Сократом» именовали европейцы Конфуция. Утверждение Чаадаева, что жизнь, не пробужденная работой самосознания, напоминает сон и не является в собственном смысле слова жизнью, – сократически ориентировано. Так же как и его знаменитое: «Прекрасная вещь – любовь к отечеству, но есть нечто еще более прекрасное – любовь к истине. Любовь к отечеству рождает героев, любовь к истине создает мудрецов, благодетелей человечества». Теперь же образцом философа становится герой Достоевского14.
Чрезвычайно любопытно выглядит это в сочинениях философа, о котором, к сожалению, сегодня говорят не часто. Алексей Александрович Козлов (1831–1901), русский философ-панпсихист, с 1888 по 1898 г. издает пять выпусков авторского журнала «Свое слово» (Киев, Спб.), где помещает одно из центральных своих произведений: «Беседы с петербургским Сократом». В центре – alter ego автора, Алексей Иванович, которого все называют Сократ Иванович, или Сократ с Песков (район в Санкт-Петербурге). Рассказывает о беседах еще один близкий автору персонаж, Платон Калужский. А вот собеседниками петербургского Сократа являются персонажи романа «Братья Карамазовы». Мы встречаем здесь и Петра Фомича Калганова, и повзрослевшего Колю Красоткина, Алешу Карамазова и даже Катерину Ивановну, ныне его супругу. Мы узнаем о смерти Мити Карамазова и некоторых иных подробностях пост-романной истории.
«А ведь я помню Красоткина по гимназии, – сказал Калганов Карамазову, – только мы были постарше его. Он еще, помнится, был известен в городе по выдрессированной им дворняжке, которая делала разные штуки.
Карамазов. Он самый и есть. Я познакомился с ним по поводу одной некрасивой истории, которую проделал в каком-то безумии покойный брат Дмитрий. У постели умирающего мальчика Илюши мы с Красоткиным, несмотря на разницу лет, даже подружились. Но потом я потерял его из виду и только недавно встретил здесь Петербурге, где он давно подвизается в качестве врача»15.
Тематика этих русских «симпосионов» (где достойное место занимают польская «старка» в трактире «Мало-Ярославец» и бутылка рейнвейна на квартире Алеши) – проблема материальной и духовной субстанции, содержание и свойства сознания, реальность пространства и времени, возможность богопознания и многое другое. «Катерина Ивановна и Анна Михайловна строго-настрого поручали дать подробный отчет обо всех разговорах, которые произойдут между нами, – предваряет одну из таких бесед Алеша Карамазов. – Кстати, они сильно протестуют против того, что мы часто беседуем без них, и хотят требовать участия и в обедах, и во всех наших сборищах. Скажите, пожалуйста, как могла такая теория, как Юма, найти последователей, поклонников и вообще распространиться?»16
В 9-й беседе («Свое слово», 1890, №3) появляется Иван Карамазов, который, как сообщает повествователь, долго жил во Франции и обрел там большую склонность к католической церкви, о которой и начинает спорить сначала со своим братом, а потом и с Сократом Ивановичем. (Это то самое время, когда в русском образованном обществе обсуждаются католические симпатии Вл. Соловьева.)
Почему персонажи именно «Братьев Карамазовых»? – задавался вопросом сын Козлова, философ С.А. Алексеев-Аскольдов (1870/71 – 1945). Вся философия Козлова, отвечает он, «явственно тяготела к христианству. <…> Избираются именно лица, для которых религия сознательно или бессознательно была основным вопросом жизни, – философская драма бесед почему-то спаивается в одно целое с религиозной драмой самого центрального религиозного произведения Достоевского. Очевидно, что здесь именно нашел Козлов наиболее родственную почву для своей философии, наиболее близкие отзвуки своему жизненному настроению»17.
В русском символизме, культуре с избыточной степенью семиотичности, где идея жизнестроения (построение жизни по законам и при помощи искусства) занимает важное место, где граф Генрих (Андрей Белый) и Рупрехт (В.Я. Брюсов) разыгрывают сложные партии с несчастной Ренатой – Ниной Петровской, сюжеты Достоевского властно вторгаются в реальность.
«Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случай-с, когда помутилось сердце человеческое... Тут книжные мечты-с, тут теоретически раздраженное сердце; тут видна решимость на первый шаг, но решимость особого рода, – решился, да как с горы упал или с колокольни слетел...» – говаривал Порфирий Петрович. «Ты загипнотизировал себя и близких тебе крайностями своей натуры. Словно так и быть должно, что ты или горишь огнем Божиим или распаляешься огнем сатаны. Ты приучил себя к мысли, что иначе не может быть, и без ужаса думаешь о том, что и в будущем ждет тебя такая же жизнь безумных колебаний» – это уже из автохарактеристики Валентина Павловича Свенцицкого (1881–1931), весьма заметного персонажа российской интеллектуальной жизни пореволюционной поры, автора книги «Жизнь Ф.М. Достоевского» (М., 1911)18. Вот уж кому от младых ногтей дано было созерцать две бездны разом! Участник философского семинара С.Н. Трубецкого, один из основателей полулегального «Христианского Братства Борьбы», активный деятель Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева и Вольного богословского университета в Москве, автор (вместе с Эрном) сборника «Взыскующим Града» (1906), задуманного по образцу «Дневника писателя» Достоевского, он выступает с пользующимися шумной известностью докладами о христианстве и революции, христианстве и терроризме, резко критикует официальную церковь, атеистическую и позитивистскую идеологию интеллигенции, противоречивые искания многочисленных мистико-декадентских кружков. «Разве может Карамазов-отец, съеденный блудом, понять смысл любви? Но и “мистики”, духовным блудом омертвившие душу свою, неспособны на непосредственное, живое, целомудренное религиозное чувство. Оно сейчас же делается материалом для духовного блудодействия: его таскают по журфиксам, в нем копаются на глазах у всех, а если есть литературный талант, то еще и тащут в типографию»19. Сейчас заметна тенденция описывать жизнь Свенцицкого в агиографическом ключе; вся эта душевная финифть совершенно неадекватна предмету. Проповедник христианского аскетизма в самых суровых его формах, Свенцицкий действительно производил ошеломляющее впечатление на современников; что-то гипнотическое было в этом человеке, – утверждают близко знавшие его В.Ф. Эрн, С.Н. Булгаков, В.А. Тернавцев, Ф.А. Степун, М.В. Вишняк и др. И вдруг – скандал: Свенцицкого исключают в конце 1908 г. из состава Религиозно-философского общества за «ряд действий, явно предосудительных» (совершение которых он в частном письме признал)20. О них он чуть не открытым текстом рассказывал и в памфлете «Письма ко всем» (1907), и в нашумевшем романе «Антихрист» (1908), главный герой которого под личиной благообразия ведет отвратительную тайную жизнь, цинично обманывая близких и с ужасом ощущая, что в нем поселился и крепнет, растет, пожирает его бессмертную душу – сатана. Всё это – двойная жизнь и литературная «исповедь» – было по сути неким экзистенциально-метафизическим экспериментом в духе то ли Подпольного человека, то ли Ставрогина, со схожими, отчасти, последствиями (Николай Всеволодович, напомню, рассказывал как-то, что «он подвержен, особенно по ночам, некоторого рода галлюцинациям, что он видит иногда или чувствует подле себя какое-то злобное существо, насмешливое и “разумное”, “в разных лицах и разных характерах, но одно и то же, а я всегда злюсь...”»). Последующая жизнь Свенцицкого не может не впечатлять событиями в духе сюжетосложения романов Достоевского, при сохранении того же достоевского радикализма: поговаривают, что он бежит за границу, во Францию, спасаясь как от преследования властей за резкую критику официальной церкви («Второе распятие Христа» (1908) и др.), так и от мести эсеров, поклявшихся расправиться с двуличным «пророком», по возвращении сближается с так называемыми «голгофскими» христианами (группа христианских социалистов, активно использующих учение Н.Ф. Федорова), совершает путешествие на Кавказ к христианским пустынникам. В 1917-м Свенцицкий принимает сан священника и становится проповедником в Добровольческой армии А.И. Деникина, позднее несколько лет работает в московских храмах, участвуя в торжественных богослужениях вместе с различными архиереями и самим патриархом Тихоном. Отец Валентин резко обличает «обновленческую» церковь, а позднее «сергианство», церковную политику лояльности советской власти. Его талантливые проповеди, в которых он призывает к внутреннему, духовному противостоянию лежащему во зле миру (в чем властями усматривается противостояние режиму), его идеи «монастыря в миру» получают большую известность. В 1922 г. и затем в 1928-м о. Валентин репрессирован, в октябре 1931 г. он умирает в сибирской ссылке, покаявшись перед Церковью, прощенный и воссоединенный с нею21.
По молодости и Николай Александрович Бердяев (1874–1948) порою представлял себя Ставрогиным, аристократом, идущим в революцию, как сам он поведал об этом в философской автобиографии. «Мне всегда казалось неверным и выдуманным, что дух должен бороться с плотью (соблазнами плоти). Дух должен бороться с духом же (с соблазнами духа, которые выражаются и в плоти). Но мой дух бывал ложнонаправленным. У каждого человека, кроме позитива, есть и свой негатив. Моим негативом был Ставрогин. Меня часто в молодости называли Ставрогиным, и соблазн был в том, что это мне даже нравилось (напр<имер>, “аристократ в революции обаятелен”, слишком яркий цвет лица, слишком черные волосы, лицо, походящее на маску). Во мне было что-то ставрогинское, но я преодолел это в себе. Впоследствии я написал статью о Ставрогине, в которой отразилось мое интимное отношение к его образу. Статья вызвала негодование»22.
Частый прием манипулятивных любовных писем Зинаиды Николаевны Гиппиус – истерические метания в духе Настасьи Филипповны («Идиот»), по-достоевски осложненные неостановимой саморефлексией, – справедливо утверждает современный исследователь. Вот письмо Н.М. Минскому от 14 января 1892 г.: «Должно быть, я в вас влюблена. А кажется, что нет. Отчего все так неверно кажется? Или, может быть, то, что кажется, – и есть верное. <…> Что значит “влюблена”? Подразумеваю я под этим любовь или что-нибудь другое? Но, кажется, – одно верно: я говорю о любви, значит, не люблю. <…> Но, предположив, что я влюблена, – ставлю другой вопрос: следует ли мне быть влюбленной? Мне кажется, что лучше делать то, что хочется. Хочется ли мне быть влюбленной… в вас? Нет. <…> Сделать, чтобы вы меня не любили – нельзя, надо, чтоб меньше любили, хотя на мгновенье. С этой целью пишу вам сие глупейшее письмо… которое, впрочем, ровно ничего не доказывает, ну, право, ничего, ибо я его написала нарочно, и я гораздо умнее его… (Это я действую, подчиняясь своему новому желанию – чтобы вы меня любили больше)»23.
Наиболее радикальный пример такого философского «вчувствования», «погружения», – случай Василия Васильевича Розанова с его женитьбой на Апполинарии Прокофьевне Сусловой, прототипе Полины в «Игроке» и отчасти Настастьи Филипповны в «Идиоте». «В.В. ранее рассказывал мне как-то, что женился на Сусловой потому, что она была любовницей Достоевского, – вспоминает С.Н. Дурылин, говоря о письме Розанова с изложением истории его первого брака. – Это был брак “от психологии”, брак по Достоевскому, – но совсем не по Розанову, не по автору “Семейного вопроса” и “В мире неясного и нерешенного”. Брак – из романа Достоевского, а не из лона Авраамова. Она была старше его на 16 лет: она уже сильно “пожила”, – не только с Достоевским, но (знал ли это В.В., когда женился?) и с нигилистами, и с иностранцами, и с красивыми испанцами. <...> В письме было яркое, мучительное до боли, просто стонущее, противопоставление того, что Розанов искал и что нашел в 40-летней даме с нигилизмом. Романтика: “та, кого любил Достоевский”! – оборвалась, психология по Достоевскому вдруг обернулась психологией тончайшего, непрерывного женского мучительства. Произошло недоразумение, идущее до глубины, расщепляющее самую жизнь: несмотря на “романтику”, на “Достоевского”, он-то искал брака не по психологии, а по онтологии, а сам оказался в плену у брака по психопатологии. Вместо греющего добрую плоть нежной семейственности “Бога Авраама, Исаака и Иакова” оказалось озлобленное безбожие шестидесятницы с постелью “принципиально” бездетной; вместо возлюбленной и нежной – озлобленная, умная, как бес, и злая, как бес, полунигилистка, полу-Настасья Филипповна (из “Идиота”), кому-то и чему-то непрерывно мстящая; вместо чаемой “колыбельной песни” в спальне раздавался психопатологический визг стареющей, ломаной и ломающейся женщины – “непрерывным раздражением” пленной мысли, озлобленной души, стареющей плоти. Начался ужас. Этот ужас сквозил в каждой строке, в каждом слове, в каждом вздохе этого письма, – и я не могу лучше и точнее выразить этого ужаса, как сравнением: тот, кто хотел возлежать, как герой “Песни песней”, на нежном и плодящем лоне, входящем в неистощимое, присно рождающее и святое лоно Авраамово, тот оказался прикованным к колющей постели стареющей, бесплодной, чувственной и истеричной нигилистки, мстящей Достоевскому, как Грушенька своему покровителю...»24
* * *
Закончу эти заметки цитатой из автора, к которому обратился вначале: «Тридцать лет тому назад умер Достоевский, а образы его искусства, эти живые призраки, которыми он населил нашу среду, ни на пядь не отстают от нас, не хотят удалиться в светлые обители Муз и стать предметом нашего отчужденного и безвольного созерцания. <…> Каждой судороге нашего сердца он отвечает: “знаю, и дальше, и больше знаю” <…>». Достоевский «вечно стоит перед нами, с испытующим и неразгаданным взором, неразгаданный сам, а нас разгадавший, – сумрачный и зоркий вожатый в душевном лабиринте нашем, – вожатый и соглядатай»25.

Вы можете скачать Четырнадцатый выпуск Бюллетеня /ЗДЕСЬ/
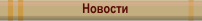
- Культура – вещь бескорыстная. Беседа с Еленой ТАХО-ГОДИ.
- 02 - 11 сентября 2016 года - Всероссийский фестиваль энергосбережения "ВместеЯрче"
- 6 сентября 2016г. Ярмарка вакансий для молодёжи "Первый шаг к успеху"
- 12-24 сентября 2016г. Международная научная конференция XV «Лосевские чтения»
- 21- 25 сентября 2016 г. Российский форум коллекционеров
- 8 – 9 декабря 2016 г. Международная научная конференция «Д.С.Мережковский: писатель – критик – мыслитель. К 75-летию со дня смерти»
- Программа "Читаем Аристотеля" в Библиотеке "Дом А.Ф. Лосева".
- Детская студия «Карандаш и кисточка»
- Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы» Программы
- Семинар «Русская философия» Программы
- Архив новостей
 '
'
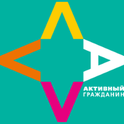
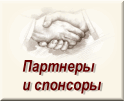


-
В августе 2016 года исполняется:
- 14.08 — 150 лет со дня рождения Д.С. Мережковского
- 28.08 — 105 лет со дня кончины Д.Н. Цертелева
- 28.08 — 125 лет со дня рождения В.Н. Ильина
подробнее об этих и других событиях...
2016 - Год Аристотеля...
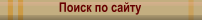
|