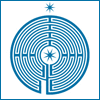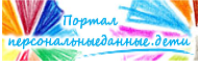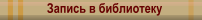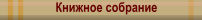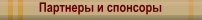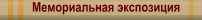Бюллетень. Номер четырнадцатый. Наши публикации
Роберт Берд (США). Физиономия Достоевского
Уже свыше 160 лет читатели вглядываются в лицо Достоевского. Читая мемуарную литературу о Достоевском, трудно не заметить, как часто его современники находили необходимым делиться своими впечатлениями о его физическом облике, и как дорожат каждым портретом, каждой фотографией, каждым прижизненным и даже посмертным изображением писателя – не меньше, чем князь Мышкин дорожил фотографией Настасьи Филипповны. В лице Достоевского ищут ключ к его сокровенной мысли и к проекциям этой мысли в плоскости художественного слова. Однако в нем находят чаще всего лишь шифр тех неразрешимых загадок, которыми изобилуют его произведения. Отчасти, конечно, лицо Достоевского – зеркало для им самим созданных персонажей, но они отражаются в нем лишь тогда, когда они отворачиваются от нас или мы – от них. Задумываясь над физическим обликом самого Федора Михайловича Достоевского, попробуем разъяснить статус лица как фигуры молчания в его творческом мире: что лицо передает, а что оно таит?
Можно отметить, насколько неуловимым оказывается само лицо Достоевского для авторов памятников, а также и для графиков и иллюстраторов. Если взглянуть на изображения Достоевского на обложках американских изданий его произведений и посвященных ему биографий и научных исследований, то единственной постоянной чертой оказывается наличие бороды, неважно какой. Возможно, это лишь отражение западных штампов о Достоевском, восходящих отчасти к такому знаменитому читателю, как виконт Вогюэ, который писал, что у Достоевского «лицо русского крестьянина, настоящего московского мужика: нос приплющен, маленькие глазки сверкают под высокими дугами бровей и горят огнем то мрачным, то нежным; высокий лоб, изрытый впадинами и выпуклостями, глубокие виски, словно выдобленные ударами молотка; и все эти черты лица оттянуты, искажены, свалены к болезненному рту. Никогда я не видел на лице человека выражения такого накопленного страдания»1.
Можно усомниться, насколько Вогюэ тут руководствуется непосредственными впечатлениями. В какой-то мере этот образ Достоевского продиктован предвзятым взглядом, смотрящим на него через его сочинения. Лицо Достоевского растворяется в его действующих лицах, как Раскольников, Рогожин и, особенно, Федор Павлович Карамазов2. Здесь, как и во всех приведенных свидетельствах, в лице Достоевского ищут ключ, а находят, скорее, замок.
Объясняя его характерные черты, в облике Достоевского часто искали (и находили) отпечатки его собственной несчастной судьбы. У Панаевой намечаются некоторые устойчивые мотивы позднейших описаний лица Достоевского: его судорожность, его тщедушность, главным образом, как это ни странно, его серость.
Уже Константин Трутовский, товарищ Достоевского по инженерному институту и автор первого известного портрета писателя (1847 г.), ретроспективно видел в лице юного Достоевского предвестие его заключения в остроге: «В то время (т.е. в 1840-е гг. – Р.Б.) Федор Михайлович был очень худощав; цвет лица был у него какой-то бледный, серый, волосы светлые и редкие, глаза впалые, но взгляд проницательный и глубокий. <…> Движения его были какие-то угловатые и вместе с тем порывистые. Мундир сидел неловко, а ранец, кивер, ружье – всё это на нем казалось какими-то веригами, которые временно он обязан был носить и которые его тяготили3.
Возможно, что лишь знание судьбы («вериг») Достоевского позволяет Трутовскому угадать за «серым» внешним обликом юного писателя иной, внутренний, который сквозит лишь в его глазах. Мотив серости повторяется уже в одном из ранних свидетельств о лице Достоевского, принадлежащем Авдотье Панаевой, которая так суммировала свои впечатления от знакомства с начинающим литератором 15 ноября 1845 г.: «С первого взгляда на Достоевского видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человек. Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица: небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно передергивались»4.
По свидетельству Алексея Ивановича Маркевича, жизнь настолько была сосредоточена в его глазах, что «с закрытыми глазами он похож на мертвеца»5. Это разделение между внешним и внутренним подчеркивает некую карикатурность облика Достоевского в целом. Парадоксальным образом он оживает, лишь переступив порог личной смерти, когда он уже перестает быть человеком, а становится автором.
Карикатурность облика живого Достоевского отмечается даже доброжелателями писателя как несоответствие в масштабах его тела и духа, как, например, в следующем описании Достоевского в дни пушкинских торжеств из воспоминаний Марии Николаевны Стоюниной: «Маленький человечек, худенький, серенький, светлые волосы, цвет лица и всего – серый. Ну, какая же фигура для “Пророка”. И вот вырастал и вырастал! Читал он, и все слушали, затаив дыхание. Тихо начал, и кончил – как пророк. У него и голос гремел, и он всё вырастал. Пророк...»6
Голос вселяется в тело Достоевского как некий демон, его физическое существо буквально одержимо. Тем временем карикатура оборачивается полным преображением «человечка» в сверхъестественного гиганта. Конечно, и одержимость и преображение – центральные мотивы в творчестве Достоевского, которые мемуаристы очевидно проецируют на его физический облик. В каком-то смысле тело Достоевского идентифицируется с корпусом его произведений, что прямо иллюстрируется в шарже А. Лебедева на автора «Бесов» (1879)7.
О живом обмене энергиями между обликом писателя и его произведениями свидетельствует Варвара Тимофеева, описывая свои встречи с писателем в начале 1870-х годов. При первой встрече 20 декабря 1872 г. Тимофеева находит приблизительно такое же существо, которое видим у Панаевой, Трутовского и Маркевича: «Это был очень бледный – землистой, болезненной бледностью – немолодой, очень усталый или больной человек, с мрачным изнуренным лицом, покрытым, как сеткой, какими-то необыкновенно выразительными тенями от напряженно сдержанного движения мускулов. Как будто каждый мускул на этом лице с впалыми щеками и широким и возвышенным лбом одухотворен был чувством и мыслью. И эти чувства и мысли неудержимо просились наружу, но их не пускала железная воля этого тщедушного и плотного в то же время, с широкими плечами, тихого и угрюмого человека. Он был весь точно замкнут на ключ – никаких движений, ни одного жеста, – только тонкие, бескровные губы нервно подергивались, когда он говорил. А общее впечатление с первого взгляда почему-то напомнило мне солдат – из “разжалованных”, – каких мне не раз случалось видать в моем детстве, – вообще напомнило тюрьму и больницу и разные “ужасы” из времен “крепостного права”... И уже одно это напоминание до глубины взволновало мне душу... <…> Он шел неторопливо – мерным и некрупным шагом, тяжело переступая с ноги на ногу, как ходят арестанты в ножных кандалах»8.
Не только скованная походка, но еще и сетка теней и замок, закрытый на ключ: не человек, а темница! Мемуаристка, очевидно, отожествляет писателя с Горянчиковым и его товарищами по «Мертвому дому». Однако при их повторном свидании в марте 1873 г. Тимофеева обнаруживает совсем другого человека: «<…> когда – далеко уже за полночь – я подошла к нему, чтобы проститься, он тоже встал и, крепко сжав мою руку, с минуту пытливо всматривался в меня, точно искал у меня на лице впечатлений моих от прочитанного, точно спрашивал меня: что же я думаю? поняла ли я что-нибудь?
Но я стояла перед ним как немая: так поразило меня в эти минуты его собственное лицо! Да, вот оно, это настоящее лицо Достоевского, каким я представляла себе, читая его романы!
Как бы озаренное властной думой, оживленно-бледное и совсем молодое, с проникновенным взглядом глубоких потемневших глаз, с выразительно-замкнутым очертанием тонких губ, – оно дышало торжеством своей умственной силы, горделивым сознанием своей власти... Это было не доброе и не злое лицо. Оно как-то в одно время и привлекало к себе и отталкивало, запугивало и пленяло... И я бессознательно, не отрываясь, смотрела на это лицо, как будто передо мной внезапно открылась “живая картина” с загадочным содержанием, когда жадно торопишься уловить ее смысл, зная, что еще один миг, и вся эта редкая красота исчезнет, как вспыхнувшая зарница. Такого лица я больше никогда не видала у Достоевского. Но в эти мгновения лицо его больше сказало мне о нем, чем все его статьи и романы. Это было лицо великого человека, историческое лицо.
<…> Я шла, всю дорогу вспоминая его лицо и тот новый, внезапно раскрывшийся предо мною его внутренний облик...»9
Разница между первой и второй встречей не только в том, что Тимофеева теперь лучше знакома с Достоевским как писателем и обращается к нему уже с конкретными вопросами типа «Что же Вы хотели сказать?» или «Что это значит?» Разница еще в том, что теперь Достоевский относится к ней, как к своему читателю, он обращается к ней со своим настойчивым вопросом: «А что же ты думаешь?»
В данном случае, очевидно, мемуаристка не только навязывает физиономии Достоевского представления, почерпнутые из его художественных произведений, но делает это под непосредственным влиянием эстетико-теоретической статьи Достоевского «По подводу выставки», которую как раз в эти дни он готовил к печати в качестве очередного выпуска «Дневника писателя» и которую, кстати, Достоевский писал вскоре после того, как Василий Перов написал его портрет. В этой насыщенной мыслями и наблюдениями статье Достоевский делится своими соображениями о реализме, в частности о реализме в жанре портрета: «“Надо изображать действительность как она есть”, говорят <современные художники. – Р.Б.>, тогда как такой действительности совсем нет, да и никогда на земле не бывало, потому что сущность вещей человеку недоступна, а воспринимает он природу так, как отражается она в его идее, пройдя через его чувства; стало быть, надо дать поболее ходу идее и не бояться идеального. Портретист усаживает, например, субъекта, чтобы снять с него портрет, приготовляется, вглядывается. Почему он это делает? А потому, что он знает на практике, что человек не всегда на себя похож, а потому и отыскивает “главную идею его физиономии”, тот момент, когда субъект наиболее на себя похож. В умении приискать и захватить этот момент и состоит дар портретиста. А стало быть, что же делает тут художник, как не доверяется скорее своей идее (идеалу), чем предстоящей действительности? Идеал ведь тоже действительность, такая же законная, как и текущая действительность»10.
Описание облика Достоевского у Варвары Тимофеевой наглядно показывает, что значит отказаться от «текущей действительности» во имя идеала, раз вспыхнувшего перед ее взором под очевидным влиянием произведений Достоевского. Мы могли бы сослаться тут на общепринятую теперь диалектику «безобразия» и «образа», впервые сформулированную Робертом Льюисом Джексоном11. Как многие писатели, Достоевский также увлекался рисованием всяких лиц на своих рукописях, зачастую наряду с архитектурными деталями. Эти рисунки часто стоят лишь в косвенном отношении к произведениям, над которыми Достоевский трудился в это время. «Как в рисунках писателя, так и в литературных произведениях человек описывается, как правило, как портрет, то есть изображение его лица»12, – пишет К.А. Баршт. Достоевский не столько великий психолог или духовидец, сколько «писатель-физиономист»13. Однако драма жизни и произведений Достоевского – в метании от образа к нарративу и обратно.
«Такого лица я больше никогда не видала у Достоевского», – говорит Тимофеева. Ни его художественные создания, ни его собственное лицо не дают задержаться на просветленном образе. Снова губа скривляется, лоб покрывается сеткой жил и теней, лицо замыкается на ключ и отворачивается от собеседника или читателя. Вспомним, что ни подпольный человек, ни Раскольников, ни Мышкин, ни один из «бесов» и ни один из «братьев» не достигает окончательной победы над собой, окончательного просветления своего лика. Даже Зосима и тот – провонял. Если задержаться на моментально просветленном лике – то получится картинка в духе иллюстраций Ильи Глазунова, из которых (на мой взгляд) высосана вся кровь личностей, созданных Достоевским, и вся динамика их жизни. Ведь сам Достоевский и его герои – образцы человеческой воплощенности, их облики только тогда застывают в законченных образах, когда они становятся жертвами насилия. Покуда они живы, то они все время подвержены превращениям, в них, как в карикатурах, все время меняется отношение между внешним обликом и духовным характером.
Не объясняется ли этим тот ужас, который Феофил Матвеевич Толстой испытывал от чтения Достоевского? Как писал Толстой в известном письме Оресту Миллеру: «Совершенно очевидно, что “человек с содранной кожей” Достоевского в духе Микеланджело радует ваш взгляд. Вы хотели бы повесить этот анатомический шедевр, эту окровавленную плоть, над своим письменным столом, чтобы досыта наслаждаться ее созерцанием. Я же восхищаюсь им как добросовестным и даже ученым, с точки зрения анатомии, трудом, но мне хотелось бы, чтобы сей труд находился подальше от моих глаз»14.
Речь идет об изображении святого Варфоломея на фреске Микеланджело «Страшный суд» в Сикстинской капелле. Здесь плоть святого держит собственную кожу в руках, причем лицо. Эта фреска напоминает, насколько отделение образа от тела – не меньше чем отделение тела от образа – является ведущей апокалиптической фантазией у Достоевского. Возможность такой фантазии – постоянный источник ужаса в его произведениях, равно как в общении с ним как человеком. Он и от читателя требует физиологического ответа на свой вопрос: «Что же ты думаешь?» Он хочет населить мир новыми существами, по сути – своими читателями. В этом – вся его утопичность.
Словом, что бы ни говорил Дмитрий Сергеевич Мережковский, лицо у Достоевского всегда крепко держится тела, это – глубоко физиологический орган. Эта физиологичность видна даже в интересе Достоевского к френологии, которая изучает соответствия между характером человека и формой его черепа. Как вспоминал его друг и благодетель, врач Яновский: «Кроме сочинений беллетристических, Федор Михайлович часто брал у меня книги медицинские, особенно те, в которых трактовалось о болезнях мозга и нервной системы, о болезнях душевных и о развитии черепа по старой, но в то время бывшей в ходу системе Галла. Эта последняя книга с рисунками занимала его до того, что он часто приходил ко мне вечером потолковать об анатомии черепа и мозга, о физиологических отправлениях мозга и нервов, о значении черепных возвышенностей, которым Галл придавал важное значение. Прикладывая каждое мое объяснение непременно к формам своей головы и требуя от меня понятных для него разъяснений каждого возвышения и углубления в его черепе, он часто затягивал беседу далеко за полночь. Череп же Федора Михайловича сформирован был действительно великолепно. Его обширный, сравнительно с величиною всей головы, лоб, резко выделявшиеся лобные пазухи и далеко выдавшиеся окраины глазницы, при совершенном отсутствии возвышений в нижней части затылочной кости, делали голову Федора Михайловича похожею на Сократову. Он сходством этим был очень доволен»15.
Как с Сократом, современники недоумевали по поводу несоответствия между авторитетом внутреннего «демона» и отталкивающей внешностью. Вспомним, как Фрейд видел в Достоевском четыре разных лица: «художника, невротика, моралиста и грешника»16. По-видимому, он и сам смущался этим несоответствием, заставляя фотографов ретушировать его образ и отказываясь посылать свою фотокарточку своим корреспондентам. Вот и ходит он среди нас, как Сократ, вглядываясь в наши лица и требуя ответа на невозможные вопросы.
Таким образом, не соглашусь ни с теми, кто хочет сделать из Достоевского икону, и ни с теми, кто противился бы любому проявлению «завершенности». Как физиономия Достоевского, так и Достоевский как физиономист требуют полноты человеческой воплощенности, в которой одухотворенность немудрено спутать с простой нервностью, а жуть от внезапных превращений – с восторгом преображения. Для Достоевского физиономия – физиология духа.
5 Ф.М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. Спб., 1993. C. 163.
6 Ф.М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. Спб., 1993. C. 200.
7 См.: Федор Михайлович Достоевский в портретах, иллюстрациях, документах / под ред. В.С. Нечаевой. М., 1972. С. 291.
8 Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 139–140.
9 Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 145–146.
10 Достоевский Ф. М. Полн.собр.соч.: в 30 т. 1971–1990. Т. 21. С. 75–56.
11 См., в особенности: Jackson R. L. The art of Dostoevsky: Nocturnes and Delirium. Princeton, 1980.
12 Баршт К.А. Рисунки в рукописях Достоевского. Спб., 1996. С. 16.
13 Там же.
14 Литературное наследство. М., 1973. Т. 86. С. 487.
15 Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 239.
16 Freud S. Dostoevsky and Parricide // The Standard Edition of the Complete Psychological Works. Vol. 21. L., 1964. P. 177.

Вы можете скачать Четырнадцатый выпуск Бюллетеня /ЗДЕСЬ/
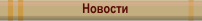
- Культура – вещь бескорыстная. Беседа с Еленой ТАХО-ГОДИ.
- 02 - 11 сентября 2016 года - Всероссийский фестиваль энергосбережения "ВместеЯрче"
- 6 сентября 2016г. Ярмарка вакансий для молодёжи "Первый шаг к успеху"
- 12-24 сентября 2016г. Международная научная конференция XV «Лосевские чтения»
- 21- 25 сентября 2016 г. Российский форум коллекционеров
- 8 – 9 декабря 2016 г. Международная научная конференция «Д.С.Мережковский: писатель – критик – мыслитель. К 75-летию со дня смерти»
- Программа "Читаем Аристотеля" в Библиотеке "Дом А.Ф. Лосева".
- Детская студия «Карандаш и кисточка»
- Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы» Программы
- Семинар «Русская философия» Программы
- Архив новостей
 '
'
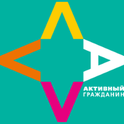
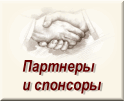


-
В августе 2016 года исполняется:
- 14.08 — 150 лет со дня рождения Д.С. Мережковского
- 28.08 — 105 лет со дня кончины Д.Н. Цертелева
- 28.08 — 125 лет со дня рождения В.Н. Ильина
подробнее об этих и других событиях...
2016 - Год Аристотеля...
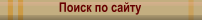
|