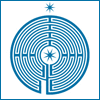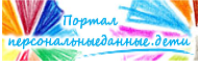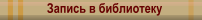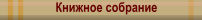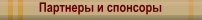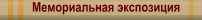Бюллетень. Номер тринадцатый. Юбилей
К 70-летию В. П. Визгина
В. П. Визгин
Оглядываясь назад с томом Зубова в руках: Опыт интеллектуальной автобиографии
Читая недавно изданный том Василия Павловича Зубова, в его статье «Натурфилософские взгляды Гёте»1 я неожиданно обнаружил четкие формулировки основных проблемных мотиваций моих научно-философских занятий за последние примерно сорок пять лет. Статья молодого автора удивительна для его возраста. Она поражает не только интеллектуальной проницательностью, но и духовной зрелостью. Многие места из нее мне захотелось выписать, подчеркнуть, продумать еще и еще. Вот одно из них: «Переживание природы и природа неразрывны». Просто и верно. И сразу же мы понимаем, что мысль, подобная гетевской или даже пришвинской, имеет полноценные права гражданства в мире не только литературы, но и интеллектуальной познавательной культуры. Во второй половине 1920-х годов умолкает философский голос Павла Флоренского (исследования диэлектриков и т.п. работы здесь не в счет). Но он звучит, правда, к сожалению, «в стол» под пером молодого его ученика и почитателя, а частично и на заседаниях ГАХН. Но я пишу не отзыв об этой замечательной работе, а интеллектуальную автобиографию, хотя пишу ее с оглядкой на эту статью. Поэтому каждый новый содержательный блок моего изложения я буду начинать с цитаты из нее. Начну с главного.
«Was fruchtbar ist, allein ist wahr», 2 — цитирует Зубов кредо Гёте. Культ плодотворности, акцент на рискованном творчестве — пусть и под угрозой сомнений в его результатах — это и моя интеллектуальная вера. Генезис ее отсылает не только к гетеанским штудиям, но и к такому философу творчества, как Бердяев, главная книга которого оказалась в 60-е годы значимым для меня событием. С кредо Гёте перекликался и Борис Пастернак, кумир кружка моих друзей тех лет3. Ведь это Пастернак сказал, что культура — это не что иное, как «плодотворное существование». В эти годы думалось и писалось и даже жилось, можно сказать, «в стол», в будущее. Но «стол» этот, к счастью, нередко оказывался дружеским застольем. Поэтому я не могу не назвать здесь имен некоторых моих друзей тех лет. Ограничусь двумя — это Наталья Васильевна Полковникова, с которой мы вместе кончали школу № 665. В голосе «одостоевшей Наташки» (по выражению Сергея Иванова) звучал для меня прежде всего Блок и Достоевский. Немалый путь, начиная с химического факультета и затем Института истории естествознания и техники АН СССР, был пройден вместе с Анатолием Валериановичем Ахутиным, введшим меня в философские кружки тех лет, в социальное измерение мысли, которого ранее для меня просто не существовало. Вторая половина 1960-х годов — время, когда я преподавал философию на химическом факультете университета. Полузапретные чтения и мысли сами собой проникали в лекции и семинарские занятия. Так что говорить о полной общественной «закупорке» неформальной интеллектуальной жизни в те далекие года нельзя. Что же касается последовательно проводимых, тематически организованных исследований академического толка, то тогда я их еще не вел, если не считать работу над диссертацией.
Стремление к плодотворности существования заставило меня ценой конфликта с заведующим кафедрой философии естественных факультетов МГУ, на которой я тогда работал ассистентом, уйти из университета по собственному желанию и устроиться на работу в Институт истории естествознания и техники АН СССР. Это было в начале 1971 г. В том же году в августе в Москве проходил Международный конгресс по истории науки. Бонифатий Михайлович Кедров, тогдашний директор ИИЕТ, предоставил сотрудникам института возможность усовершенствовать их знания иностранных языков. Я и ранее понимал, что без этого невозможно вести полноценные исследования. Так произошла моя встреча с французским — причем совершенно неожиданно, ибо я решил усовершенствовать свой университетский английский, но при проверке оказалось, что я его уже достаточно — для тех курсов, которые для нас были тогда организованы, — знаю. Мне предложили идти на французское отделение. Языка этого я не знал совершенно. Но увлекся его изучением. Мне захотелось не только свободно читать на нем, но и говорить и думать: манил опыт другой жизни, другого менталитета. Манил эксперимент. И он, кажется, оказался не таким уж бесплодным. Однако обосновывать этот тезис я здесь не буду.
Мои академические научно-философские занятия начались с исследования проблемы качества, которая ставилась тогда в двуедином плане — в концептуальном и в историческом. И вот снова цитата из Зубова: «Весь вопрос в том, почему канонизируется, узаконивается и возводится в догмат количественное мировоззрение? Объявить качества мифом и иллюзией, перенеся в область субъективного, значит, отодвинуть, а не решить проблему. Достаточно билась новая мысль над решением мнимых антитез, возникающих на почве расщепления физического и психического! Пора вернуться к подлинному единству, когда мир физических абстракций приобретет вновь красочную яркость, а психическое облечется в подлинную плоть». Именно этим пафосом был увлечен и я, став сотрудником сектора истории химии ИИЕТ. Химия — наука о качественном par excellence. Качество обладает не редуцируемым к количеству статусом. Вот из чего я тогда исходил, занявшись истоками химического знания в античной натурфилософии. Постепенно проблема качества получила более четкое логическое и историческое очертание, в центре которого оказался Аристотель. Здесь я работал в рамках, можно сказать, научной философии науки. В ходе исследования проблемная тема доопределилась. И по сути дела моя первая монография «Генезис и структура квалитативизма Аристотеля» (1982) явилась решением этой проблемы, уточненная формулировка которой указана в ее названии. Вопрос был задан о том, какова структура аристотелевского, как сейчас говорят, дискурса о качествах и чем ее можно объяснить, когда она уже в основе своей выяснена, каков генезис этой структуры? Ответ был достаточно четко сформулирован в этой книге. Но рукопись получилась некраткой и потом мне говорили, что эвристический ключ к решению этой проблемы с большей выразительностью оказался прописанным в небольшой статье «Качества в картине мира Аристотеля», опубликованной в журнале «Природа».
Еще цитата из Зубова: «Цвет в известном смысле возникает при посредстве глаза, ибо существует для него — но это еще не значит, что он только субъективен. Мы имеем дело с объективным раскрытием сущности света через глаз. Так, исследование неорганической природы само приходит с неизбежностью к биологии». Зубов эту мысль высказывает к концу своей статьи. А ведь это высказывание о гётевской теории цветов вводит в тему моих занятий историей науки с самого их начала, когда в 1971 г. я оказался младшим научным сотрудником ИИЕТ. Подробно об этом написано в эссе «Химия как amor Dei», опубликованном в сборнике, посвященном памяти замечательного историка химии Владимира Ивановича Кузнецова, который и взял меня в свой сектор. Нас познакомила Регина Семеновна Карпинская, мой научный руководитель на кафедре философии МГУ. Весь этот пласт стремлений и занятий можно назвать проектом биологизации химии как в теоретическом, так и в историческом плане. Его идея проста — развитие химии фокусируется и постигается в химии развития, или в эволюционной химии. Кузнецов увидел во мне философского гаранта этого проекта, в издательском виде представляющего собой замысел написания коллективной монографии, причем многотомной, по всеобщей истории химии с единым концептуальным стержнем. Создать «концептуальную канву» этой истории мне и было им поручено. Наши с ним ориентации в философии химии удивительным образом срезонировали: я писал диссертацию на тему химической эволюции вещества в космосе, а он, увлеченный этой идей во всех ее аспектах и прежде всего в историко-химическом, стал моим главным оппонентом на ее защите.
Поэтому неудивительно, что через два года после защиты я оказался в руководимом им секторе истории химии ИИЕТ. Среди историков химии тогда вспыхнул спор, можно сказать, позитивистов с романтиками. Мы с Владимиром Ивановичем были, конечно, романтиками. Он давно уже изучал концептуальную биологизацию химии через исследования явлений катализа, что позволяло надеяться далеко продвинуться вперед в понимании того, как неживое вещество оказывается живым, как химический индивид обретает биологические контуры. А я, оказавшись в секторе истории химии, устремился к истокам этой науки в античной натурфилософии. Нам обоим казалось, что «жизненный порыв» вел весь мир, а значит, и химически устроенное вещество этого мира. Для нас обоих химия была обнаружением метанаучных сущностей, а химизм — «этапом универсального развития Вселенной. Если угодно, за подобной романтикой стояли Анри Бергсон с его "Творческой эволюцией" и неоплатонизм с его идеей Всеединства»4.
И снова Зубов: «Зримое зрит себя в зрящем... Тождество природы и сознания — вот из чего исходит Гёте в "Farbenlehre"». Гетеанский подтекст антиредукционистской позиции, выразившейся в аристотелевских штудиях в связи с проблемой качества, тогда не тематизировался, оставаясь в полусумраке сознания. Несмотря на все уважение к строгой доказательной науке, к научному методу, к естествознанию, аурой которого я тогда был пропитан, счесть сознание, сферу эстезиса и поэзии чистым эпифеноменом материального субстрата мироздания я не мог. Их онтологическое достоинство скорее авансировалось мною, чем доказывалось и философски выстраивалось. Во всяком случае, в 1970-е годы помимо академических исследований велась и другая, менее организационно оформленная философская работа — чтение, беседы с философами и прослушивание их лекций, споры с друзьями, участие в домашних семинарах. Этот пласт наполненного времени вместе с более ранним периодом следует считать «годами учения» — ведь методически выстроенного философского образования я не получил. Химик-кустарь в философии, автодидакт в ней, я и до сих пор многих важных работ не проконспектировал и не продумал, о чем, конечно, не могу не сожалеть. Но я хотел сказать о другом. Эти занятия на самом деле служили невидимым основанием видимых исследований, публикуемых издательством «Наука» в виде статей и книг. С годами и они получали свою воплощение — сначала в докладах на домашних философских семинарах (я имею в виду прежде всего семинары B.C. Библера и И.Д. Рожанского), а затем и в публикациях в журналах и сборниках. Тем не менее следует еще раз подчеркнуть, что затянувшиеся «годы учения», которые как-то и в какой-то степени перекрывались с «годами странствий», служили живой почвой для более нормированных исследований в стенах академического института. Их же концептуальная содержательность зигзагами — я это подчеркиваю — уводила от склонности к естественно-научному материализму, вполне понятному у химика, получившего университетское образование. Материализм во всех его видах уже в те далекие годы осознавался не только в своей шокирующей антифилософичности и неистинности, но и в своей относительной правоте. В общем духовно-интеллектуальном хозяйстве человека он воспринимался — во всяком случае вне своих вульгарных идеологических представлений — необходимым элементом для того, чтобы платонизм не слишком зазнавался, впадая в спячку самодовольства. Я думаю, что в те далекие годы мною недостаточно было пережито и продумано то, что называется духом. Продумывалась эмпирия — как же иначе могло быть у естественника-химика? Продумывалась теория, без которой нет современного естествознания, равно как и гуманитарной науки. Продумывалась их связь. Но дух не тематизировался в своем своеобразии как именно дух. Гегеля здесь все-таки мне не хватало, а Платон, к сожалению, был прочитан слишком поздно — вместе с изданием его в «Философском наследии», то есть в конце 1960 — начале 1970-х годов. Иными словами, эмпиризм угрожал срывами в материализм френсис-бэконовского толка, а теоретизм современной науки отсылал к другой «Харибде» — к увлечению отвлеченным интеллектуализмом. К счастью, этот недочет все же корректировался, хотя и слишком медленно. Основу такой коррекции составляли прежде всего занятия русской философией, которые тогда, к сожалению, были недостаточно основательными в том числе и по причине относительной труднодоступности соответствующей литературы.
И вот опять Зубов: «Единая связь и есть prius явления... "Одно явление не объясняет само себя и из себя"». Вот в этих словах Зубова и Гёте, которого он цитирует, и раскрывается содержание понятия духа. Возможно, что в те годы в какой-то степени вольно или невольно действовала «заморочка» марксистского толка, символом которой служили, увы, слова «диалектика», «теория развития» и т.п. Она действительно препятствовала концентрации внимания на духе, на спиритуальном измерении бытия. Всеохватная связь явлений, исходя из которой они становятся постижимыми, — это и есть духовная связь, коренящаяся в глубине реальности. Дорога к персонализму оказалась в результате слишком длинной. Неоплатонизм, кроме, увы, запоздалого ознакомления с книгой Блонского, оставался за семью печатями. А французского спиритуализма Тейяра или Бергсона, как и отечественного в лице Лосского или Бердяева, было недостаточно для того, чтобы персоналистическое философствование по-настоящему привлекло к себе внимание. Я слишком болезненно «болел» судьбой научного знания (что само по себе понятно в виду моего образования и почти двадцати лет, проведенных в стенах Института истории естествознания и техники), чтобы всецело погрузиться в чисто философские спиритуалистические и персоналистические штудии. Персонализм же, помню, особенно отталкивал: понятие «личности» казалось достоянием болтливых гуманитариев, а не естественно-научно ориентированного исследователя. Вообще в философском мире меня отталкивало идеологическое давление на свободу личного решения: почему это я должен продумывать понятие личности (или какого-то другого понятия, вдруг ставшего «модным» и «важным» и внушаемого мне извне)? Требование настоящей научности в мире философии и истории, то есть точности, верифицируемости, доказательности, было неоспоримым императивом того ментального мира, который я разделял со многими своими коллегами, историками и учеными. И лишь долгие занятия гуманитарными науками, включая философию, но особенно литература и история выводили из этих слишком тесных стен научного интеллектуализма. Здесь я прежде всего пропитывался философской эманацией экзистенциализма, который в 1960-х — начале 1970-х годов был к тому же в фокусе внимания образованной публики. Экзистенциально-философско-литературные эссе писались и тогда, но, правда, исключительно «в стол». Это были, например, отклики на пьесы Сартра, фильмы Тарковского, Ежи Кавалеровича, Ингмара Бергмана и Феллини. Сюда же следует отнести и изучение Шопенгаэура и Ницше, а также упоенное чтение десятитомника Томаса Манна и все с этим культурным пластом связанное. Кстати, эссе о новелле «Смерть в Венеции» — одна из самых первых публикаций этого рода. От ииетовской академической работы это, казалось бы, достаточно далеко. Но на самом деле это не так. Например, исследования о Фонтенеле и о множественности миров в культурном сознании, представленные в форме эссе, очевидным образом продолжали и завершали чисто историко-научную и историко-философскую работу над темой множественности миров. Однако когда эти эссе я принес редактору «Историко-астрономических исследований», то Майстров не без интереса их прочел, но не взял: уж слишком явно жанром и стилем речи они не укладывались в стандарт академической работы. Научный мундир полагалось затягивать на все пуговицы. Никаких поэтико-гуманитарных метафор и оборотов тогда не дозволялось. Впрочем, так устроена всякая дисциплина. В том числе научная.
Снова читаю у Зубова: «Судьбы природы оказываются неразрывно связанными с судьбами религиозного духа». Эти слова Василий Павлович Зубов говорит о философии позднего Шеллинга и Баадера в связи с Гёте и его физикой. И делает вывод: «Мечта Гёте о воссоединении поэзии и науки возвращается здесь в еще более широких и грандиозных очертаниях». Эта же мечта в форме стремления к обозначенной в ней цели так или иначе вела мои интеллектуальные поиски во всех книгах, начиная с «Генезиса и структуры квалитативизма Аристотеля». Сейчас же она привела меня к тому, что я называю экзистенциальной философией культуры, подступы к которой слегка приоткрыты в недавно изданной книге о философии Габриэля Марселя.
«Явления ничего не стоят, — цитирует Зубов Гёте, — если они не дают нам более глубокого и богатого воззрения на природу». Если в природе мы открываем не столько лежащие на одной ценностно-духовной высоте явления, которыми овладеваем с практическими целями, сколько работу самовозрастающего духа, то такой вроде бы натуралистический эмпиризм оказывается уже, по сути дела, «высшим эмпиризмом». На этот термин Шеллинга обратил свое внимание Габриэль Марсель, почувствовав в стоящем за ним понятии внутренне близкое ему содержание. Опыт опыту рознь. Сфера опыта не просто динамична. Нет, она еще наделена и ценностной в онтологическом смысле иерархией. Тимирязев, говорит Зубов, дарвинизирует гетевскую метаморфозу, размещая ее исключительно в плоскости физического времени. Действительно, Гёте, уточняет Зубов, «постоянно берет метаморфозу то в смысле метаморфозы во времени, то в смысле идеальной сверхвременной метаморфозы». Дарвинизация Гёте означает элиминацию духовной, или, в данном случае, идеальной связи биологических видов. В своей интуиции прафеномена Гёте вступает «в область "Erfahrungen der höheren Art"» . Эти «опыты высшего рода» и образуют то, что Шеллинг называл «высшим эмпиризмом» и что подхватил Марсель, вступив в резонанс здесь и с Гёте, и с Шеллингом на своей волне, на волне метафизики высших позитивных состояний человека, раскрывающихся в его «касаниях мирам иным». Поэтому и здесь Василий Павлович Зубов нашел в безмерно богатом явлении Гёте такие черты его мысли, которые в качестве идейного стимула вели меня в моих философских занятиях и в недавние годы. В ходе них ясно обнаружилось, что прежде всего художественное начало внутри научно-философской мысли сообщает ей долговечность и продуктивность.
В связи с данным утверждением, которым я хочу завершить этот автобиографический опыт, приведу одно место из Гёте. Однажды, гуляя с Эккерманом, Гёте заметил, что «немцам <...> мешают философские умозрения, которые часто придают их стилю отвлеченный, нереальный, расплывчатый и напыщенный характер»5. Василий Павлович Зубов прошел школу немецкой философии, но достаточно рано дистанцировался от ее стилистики, что видно по его окрашенному мягкой иронией замечанию о «философических рацеях», ожидавших его на заседаниях ГАХН. Гораздо жестче высказывается Ренан. В своем отзыве об «Интимном дневнике» Амиеля, швейцарского профессора, воспитанного в Берлине на немецком идеализме, он радикализирует суждение Гёте: «Гегелевская школа, — говорит Ренан, — научила его (то есть Амиеля — В. В.) сложным приемам мышления и тем самым сделала неспособным писать»6. Сказано, быть может, не только слишком резко, но и несправедливо. Но все же, что прежде всего имеет в виду Ренан? «Все становится для Амиеля, — развивает он свою мысль, — материалом для теоретической системы. Встретив, например, красивую женщину, он весь день проводит в построении теории кокетства и неудобств, связанных с красотой». В конце концов, гетевскому критерию правильно проживаемой жизни Амиель, по мнению французского ученого, не удовлетворяет — его жизнь, замечает Ренан, поражена «стерильностью». Скорректируем жесткость ренановского высказывания, приняв во внимание его идейное, мягко говоря, недопонимание философского значения Гегеля. Позитивистическая рациональность французского ученого не приемлет не только свойственного немецкой традиции априоризма мысли, но и ее спекулятивной, если угодно, мистической глубины: «Есть в Гегеле что-то от Раймонда Луллия», — замечает Ренан. Но нам важно другое — как связана продуктивность наших интеллектуальных деяний со стилем их воплощения? Лишь хорошо промешанный материал мысли позволяет произвести ее в ясных, способных ее передавать в будущее формах. Гёте и Василий Павлович Зубов остаются здесь надежными маяками.
1 Зубов В.П. Из истории мировой науки. Избранные труды 1921—1963. СПб., 2006. С. 29—58. Все цитаты из этой работы Зубова даны курсивом без указания страницы данного издания.
2 Лишь плодотворное является истинным (нем.).
3 Визгин В.П. Поэзия — философия — повседневность // Визгин В.П. На пути к другому. От школы подозрения к философии доверия. М., 2004. С. 673.
4 Визгин В.П. Химия как amor Dei // История науки в философском контексте. СПб., 2007. С. 150.
5 Эккерман И.П. Разговоры с Гёте. М. — Л., 1934. С. 232—233.
6 Renan Е. Feuilles détachées. Paris, 1892. P. 364.

Вы можете скачать Тринадцатый выпуск Бюллетеня /ЗДЕСЬ/
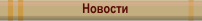
- Культура – вещь бескорыстная. Беседа с Еленой ТАХО-ГОДИ.
- 02 - 11 сентября 2016 года - Всероссийский фестиваль энергосбережения "ВместеЯрче"
- 6 сентября 2016г. Ярмарка вакансий для молодёжи "Первый шаг к успеху"
- 12-24 сентября 2016г. Международная научная конференция XV «Лосевские чтения»
- 21- 25 сентября 2016 г. Российский форум коллекционеров
- 8 – 9 декабря 2016 г. Международная научная конференция «Д.С.Мережковский: писатель – критик – мыслитель. К 75-летию со дня смерти»
- Программа "Читаем Аристотеля" в Библиотеке "Дом А.Ф. Лосева".
- Детская студия «Карандаш и кисточка»
- Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы» Программы
- Семинар «Русская философия» Программы
- Архив новостей
 '
'
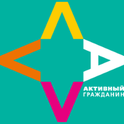
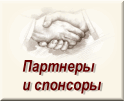


-
В августе 2016 года исполняется:
- 14.08 — 150 лет со дня рождения Д.С. Мережковского
- 28.08 — 105 лет со дня кончины Д.Н. Цертелева
- 28.08 — 125 лет со дня рождения В.Н. Ильина
подробнее об этих и других событиях...
2016 - Год Аристотеля...
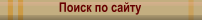
|